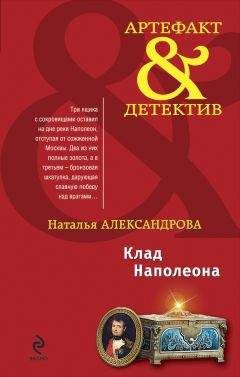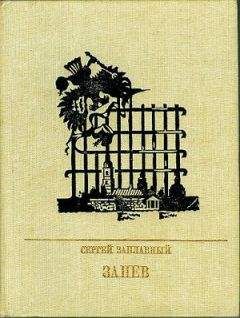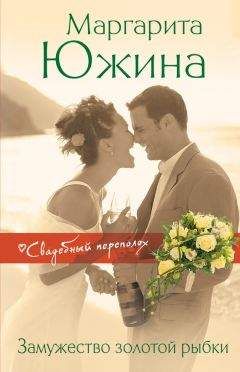Значит, он не в лодке… наверное, в повозке… хотя скорее – в простой крестьянской телеге… ну да, теперь он расслышал натужный скрип несмазанных колес, мерные шаги лошади по промерзлой земле. И еще он почувствовал запах сена и увидел рядом со своим лицом колючую, душистую сухую траву.
Барон попытался приподняться на локте, чтобы оглядеться, но все тело болело, и он, мучительно застонав, снова вытянулся на спине.
– Очухался? – раздался совсем рядом с ним сочувственный женский голос, и над фон Армистом склонилось лицо, закутанное в теплый шерстяной платок. – Лежи, лежи, милок, скоро уже приедем!
– Холодно! – проговорил барон, с трудом припоминая русские слова. – Ошень холодно!
– Само собой, студено! – согласилась женщина и заботливо натянула на него повыше какую-то драную рогожу, прикрыла его сеном. – Ничего, солдатик, скоро ужо приедем! А в избе-то у меня натоплено…
Вдруг откуда-то из темноты высунулась оскаленная волчья морда. Фон Армист вскрикнул, попытался защититься от зверя… и услышал женский смех:
– Да не бойся ты, милок! Это же Полкан мой… Полкан, дурья твоя голова, куда ж ты в телегу заскочил? Напужал солдатика! Беги рядом!
Страшная морда исчезла, и тут же рядом раздался недовольный, обиженный лай.
«Что же со мной случилось? – думал барон, глядя на проплывающие в высоте звезды. – Должно быть, я попал в плен… впрочем меня, по крайней мере, не растерзали волки».
Он снова приподнялся, на этот раз более успешно, и сумел разглядеть, что едет в телеге, нагруженной сеном и запряженной мохнатой крестьянской лошаденкой, по промерзшей речной долине. Рядом с телегой шла, опираясь на суковатую палку, высокая женщина в тулупе и платке, рядом с ней бежала большая лохматая собака, которую он только что принял за волка.
– Ты лежи, солдатик, лежи! – проговорила женщина, обернувшись к нему. – Ты же так расшибся – страх! Хорошо, я тут проезжала да увидала тебя. А то бы сожрали тебя волки…
Только теперь барон вспомнил ужасные приключения минувшей ночи, зеленые волчьи глаза, светящиеся в темноте вокруг костра, бешеную скачку на Голубчике через ночной лес, бегущих по следу волков, страшную смерть Густава Крузенштерна…
Тут же он вспомнил шкатулку с удивительными узорами на крышке и с горечью подумал, что потерял ее и никогда больше не найдет.
В следующую секунду барон испытал чувство жгучего, мучительного стыда: он потерял весь свой отряд, на его глазах ужасной смертью погиб славный молодой офицер, а он думает о какой-то шкатулке!
Но перед его глазами снова замелькали магические спирали на шкатулке, и он вспомнил то удивительное чувство, которое испытывал, погружаясь в их волшебный узор…
Фон Армист подвинулся на своем неудобном, колком ложе, и в его бок уткнулось что-то жесткое. Протянув руку, он нащупал свою седельную сумку. Ту самую сумку, в которой… в которой лежала шкатулка!
Словно прочитав его мысли, женщина, шагавшая рядом с телегой, проговорила:
– Я и котомку твою подобрала. Уж не знаю, что там у тебя, а только ты ее к себе прижимал как дите любимое. Смотрю, сам еле живой, а котомку не выпускаешь…
«Значит, это судьба, – подумал барон, снова опускаясь на сено. – Я связан с этой шкатулкой какой-то мистической связью. Мне самой судьбой предназначено хранить ее».
Вскоре впереди раздался собачий лай, петушиный крик – барон понял, что они приближаются к деревне.
– Вот что, милок! – Голос женщины стал озабоченным. – Я тебя покуда сеном закидаю. А то мужики у нас сердитые, скажут – зачем хранцуза привезла…
– Я не француз, – возразил барон. – Я…
– А мне-то что за дело? – перебила его женщина. – По мне, солдатик, что хранцуз, что немец, что поляк – все люди, все солдатики, все горе горькое на войне мыкают! Вот Кузьма мой как ушел пять лет назад на Параскеву, так и не видала его с тех пор, ни словечка от него, ни весточки. Так, может, тоже где сейчас лежит пораненный, и какая-нибудь баба его пожалеет, как я тебя!
Она набросала на барона охапки сена и добавила:
– Все, милок, лежи тихо! Потом уж я тебя в крестьянское переодену, так, может, мужики ничего и не скажут… они у нас, милок, сердитые, да отходчивые!
Фон Армист замолчал и вытянулся на спине.
Сено лезло в нос, в глаза, щекотало в горле, мешало дышать, но он старался терпеть и ничем не выдать себя, понимая правоту своей спасительницы. Не для того он вырвался из волчьих зубов, чтобы его убили мужики!
Телега покатилась медленнее, потом куда-то свернула. Собачий лай стал громче и ближе, Полкан отвечал соседским псам хрипло и недоброжелательно.
Наконец телега остановилась.
Женщина скинула с барона сено и проговорила вполголоса:
– Ну, вылезай, солдатик, да быстренько в избу, пока не заметил никто!
Фон Армист с трудом вылез из телеги и огляделся.
Он находился рядом с низенькой, почти вросшей в землю избушкой с единственным подслеповатым окошком. Вокруг избушки высился покосившийся забор, за ним виднелись другие такие же избы – маленькая, бедная деревушка, приютившаяся среди бескрайних русских лесов.
Все тело болело, но барон сделал над собой усилие и захромал к крыльцу.
Внутри изба казалась еще меньше и мрачнее. Крошечная, полутемная комнатка, закопченные балки потолка, низкая лавка возле окна – вот и вся обстановка. Большую часть помещения занимала печь, и это было самое лучшее, о чем барон только мог мечтать: печь натопили, и поэтому в избе оказалось тепло.
В красном углу висела икона – мрачный, суровый лик смотрел исподлобья, неодобрительно разглядывая иностранного офицера, как будто намереваясь предъявить ему счет за все невзгоды и притеснения, выпавшие на долю здешних жителей.
Хозяйка куда-то исчезла, затем вернулась с деловитым и озабоченным видом:
– У меня, милок, банька истоплена. Давай-ка ты помойся, пока не совсем остыла, потом уж я тебя покормлю чем бог послал. Конечно, жару уже настоящего не осталось, но все же малость прогреешься, а то как бы ты не заболел, после того как на земле столько времени пролежал!
Барон пошел за хозяйкой.
У него теперь как бы не было собственной воли, он отдался в руки этой доброй женщины и позволял ей делать все, что она считала нужным. Хотя, конечно, после ночи, проведенной в лесу, и неизвестно какого времени на ледяной земле он мечтал прогреться.