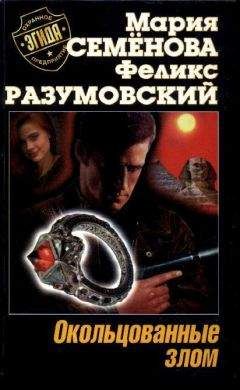«Ну что ж поделаешь, почтенный Аналитик, слияние буржуазии с победившими массами в условиях диктатуры пролетариата неизбежно. Кто был ничем, тот станет всем, а значит, и наоборот. Пейте на ночь настойку пустырника, и спокойный сон без кошмаров, вставаний по нужде и поллюций вам обеспечен».
«Вы так заботливы, Дорогой Друг, благодарю. Теперь пару слов о Екатерине Викторовне Петренко. Собственно, вся информация по ней также находится на вашем сайте, коснусь лишь самого, на мой взгляд, интересного. Дамочка эта уволилась из органов в звании капитана, и неудивительно, что, почувствовав странности в поведении лже-Берсеньева, посадила ему на хвост своего любовника опера Семенова. С ним, Дорогой Друг, вы имели честь встречаться на кладбище. Косвенно все это подтверждает версию, что Башуров и Берсеньев теперь одно и то же лицо. Вдобавок Петренко озадачила сомнениями свою давнишнюю подругу подполковника Астахову, и та тоже копает под Борзого. Между прочим, весьма профессионально».
«Да, уважаемый Аналитик, лишний раз убеждаюсь, что женщину не проведешь. Однако интуиция говорит, что это еще не все и самое интересное вы придержали на десерт».
«Интуиция, Дорогой Друг, эта ветреная и непостоянная девка, вам пока не изменяет. В самом деле, из телефонных разговоров Петренко с ее начальником профессором Чохом следует, что у Башурова есть перстень с какими-то загадочными знаками, которые не поддаются расшифровке, причем снять его с руки не удается никакими силами. Когда же Борзый попытался отрезать палец, то сделать этого не смог и впал в кому, едва-едва неотложка откачала. В общем, сплошная мистика, сказки тысячи и одной ночи. На всякий случай я взял на контроль компьютер профессора, лишняя информация не помешает».
«Вы совершенно правы, уважаемый Аналитик. Лишней информации, впрочем, как и лишних денег, не бывает. Благодарю вас, конец связи».
Дела минувших дней. 1928 год
Кровь невинных вдов и девиц.
Так много зла совершивший
Великий красный.
Святые образа погружены в горящий воск.
Все поражены ужасом, никто не двинется с места.
Мишель де Нотрдам. VIII, 80
Служебный кабинет Ивана Кузьмича Башурова был небольшим, но по-своему уютным. Забранное решеткой окно, два стола буквой т, огромный железный сейф да несколько венских стульев с гнутыми ножками, — словом, стандартный чекистский комфорт. Слева на стене висел портрет вождя пролетариата, справа — отца народов, а прямо над головой — железного рыцаря революции, суровым ликом походившего, прости Господи, на святого Модеста, от падежа скота избавляющего.
Была середина недели. Напольные, в рост человека часы с вензелем графа Шереметева показывали начало первого. Снаружи сквозь решетку доносились трамвайные звонки, стучали копытами лошади ломовиков, изредка с ревом проезжали грузовики. Рабочий процесс был в самом разгаре.
Хозяин кабинета, товарищ Башуров, расположился за столом у окна, по левую руку от него, деловито закусив папиросу «Молот», застыла над клавишами «ундервуда» вольнонаемная сотрудница ОГПУ товарищ Нина, а в дальнем углу, у дверей, в ожидании работы разминал суставы пальцев в прошлом анархист, а ныне помощник оперативного уполномоченного товарищ Сева. Он был плечист, неразговорчив и тщательно скрывал татуировку, изображающую ключ, перекрещенный стрелой, самую что ни на есть воровскую.
В центре кабинета на массивном стуле с ножками, вмурованными в пол, сгорбился бывший инженер-путеец, а в настоящее время владелец мастерской по ремонту швейных машинок Савелий Ильич Золотницкий. Вид его был бледен и жалок. Взяли Золотницкого вчера поздним вечером, и всю ночь он провел в «холодной» — просторной камере без параши, с выбитыми стеклами и водой по щиколотку.
Стояче-ледяная ножная ванна возымела эффект, и сейчас, громко клацая зубами от холода, бывший путеец поспешил покаяться: да, грешен, не все золото сдал, остались царские червонцы, спрятанные в ножках рояля. Укоризненно глянул со стены товарищ Дзержинский, затрещал со скоростью пулемета «ундервуд» товарища Нины, штабс-капитан осторожно, чтобы не лопнули струпья на подбородке, скривился:
— Очень хорошо. Перейдем теперь к главному.
Однако факт своего пребывания в рядах МОЦР — монархической организации Центральной России, равно как и участие во взрыве Ленинградского партклуба в июне двадцать седьмого года, специалист по швейным машинкам усиленно отрицал.
— Ладно, в «парную» его. — Хованский усмехнулся и подколол умело сфабрикованный донос к делу. — Ты у меня разговоришься.
Умные все-таки головы блюдут советскую власть. Мало того, что приспособили для классовых врагов «холодную», карцер в виде колодца, забитого бухтами «колючки», страшную «пробковую» камеру, так и русскую баню догадались для защиты революции употребить! Просто до гениальности: нужно забить подходящий закут контрреволюционным элементом поплотнее, а потом водички горячей на пол, по щиколотку. К утру, глядишь, тот, кто не загнулся, власть советскую будет уважать самым жутким образом.
Между тем гулко хлопнули двери, и конвойный, топая сапожищами, поволок гражданина Золотницкого париться. Товарищ Нина выбралась из-за «ундервуда» поссать, а Хованский строго глянул на разминавшего суставы товарища Севу:
— Что, обосрались давеча с обыском-то? Давай, сыпь за машиной, будем этих Золотницких по новой шмонать.
Бывший путеец не обманул: рояль в гостиной действительно был набит золотом. «Такую мать, как все просто, стоило вчера паркет разбирать!» Штабс-капитан тихо выругался. Полегоньку крысятничая, шарили в шкафах гэпэушники, понятые, сидевшие за столом, молча им завидовали, и Хованский ненадолго задержался на кухне возле рыдающей взахлеб хозяйки:
— Полноте, Елена Петровна, убиваться так из-за барахла, оно того не стоит.
— Ах, да что вы понимаете, — Золотницкая отняла ладони от лица, вытащила платок, слезы почти ее не портили, — я тревожусь за Савелия и за себя. Кроме него, у меня нет никого, всех, всех ваши расстреляли… — Она снова зарыдала, потом, неожиданно успокоившись, вплотную придвинулась к штабс-капитану: — Скажите, нельзя ли ему помочь? В доме уже ничего не осталось — возьмите меня. Как последнюю девку. Делайте что хотите со мной, только мужу помогите, хоть раз будьте человеком, вы, сволочь, животное! Господи, как я ненавижу вас всех!
Плечи ее вздрагивали, пахло от них французскими духами. Семен Ильич не спеша закурил «Яву», улыбнулся уголками рта: