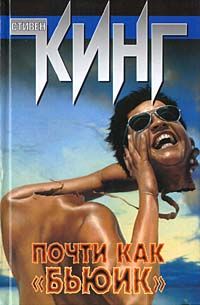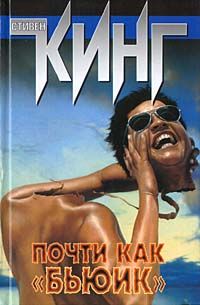Один — в результате аллергической реакции на пары хлорина, двое — от страха и волнения. Одна учительница, Розэллен Неверс, пострадала серьезнее. Она лежала на боку, в полузабытьи, хваталась за горло слабеющими пальцами. Глаза вылезли из орбит, словно белки сваренных вкрутую яиц.
— Это моя мамочка, — сказала одна маленькая девочка. Слезы катились из огромных карих глаз, но она крепко держала в руках глиняную вазочку. — У нее астма.
Джордж опустился на колено рядом с женщиной, сунул руку под шею, чтобы голова чуть откинулась назад, облегчая доступ воздуха в легкие. Волосы разметались по бетону дорожки.
— У нее есть какое-нибудь лекарство от астмы, сладенькая, которое она принимает, когда ей становится плохо? — спросил Джордж.
— В кармане, — указала маленькая девочка с вазой. — Моя мамочка умрет?
— Нет. — Джордж достал ингалятор «Фловента» из кармана миссис Неверс, прыснул лекарство ей в горло. Она ахнула, задрожала всем телом и села.
Джордж занес ее в автобус на руках, следуя за кашляющими, плачущими детьми. Усадил Розэллен в кресло рядом с дочерью, сам сел за руль. Врубил первую передачу и погнал автобус через футбольное поле, мимо своей патрульной машины, на объездную дорогу. К тому времени, когда «Блю берд» выехал на шоссе, дети уже улыбались. Вот так патрульный Джордж Станковски и стал героем, аккурат в то время, когда те, кто находился на базе, изо всех сил пытались остаться в здравом уме.
И в живых.
Последние слова Джорджа: «Это Четырнадцатый. Я — семь». Что означало: «Это патрульная машина 14, Вышел из строя». Я это записала и посмотрела на часы. 2.23 пополудни. Время хорошо запомнила, как и то, что Хадди, стоявший позади, легонько сжал мне плечо, должно быть, поддержать: с Джорджем и детьми все будет в порядке. Двадцать три минуты третьего — именно в это время разверзся ад. Совсем не в фигуральном смысле.
Мистер Диллон залаял. Не басовито, с достоинством, как случалось, когда он чуял оленя, зашедшего на поле за зданием, или енотов, решившихся обнюхать крыльцо. Нет — визгливо, отрывисто, как никогда раньше. Словно наткнулся лапой на что-то острое и никак не мог освободиться.
— Что за черт? — вырвалось у Хадди.
Мистер Диллон, пятясь, отошел на пять или шесть шагов от сетчатой двери. Выглядел он, как лошадь на родео, пригибающая голову к земле, чтобы избежать лассо. Думаю, я сразу поняла, что сейчас произойдет, думаю, понял и Хадди, но мы просто не могли в это поверить. Даже если бы поверили, не смогли бы остановить его. При всей своей смирности. Мистер Диллон искусал бы нас, если б мы попытались. Он продолжал пронзительно тявкать, а из уголков рта пошла пена.
Помчался к сетчатой двери, набирая ход. Не думая тормозить. Головой прорвал сетку, частично отодрал ее от нижней части рамы, выскочил на улицу, по-прежнему тявкая.
Только тявканье это больше напоминало отчаянные крики.
И одновременно в нос ударили сильные запахи; морской воды и гниющей органики, может, водорослей. Тут же завизжали тормоза, заскрипели шины по асфальту, кто-то заорал: «Берегись! Берегись!» Хадди побежал к двери черного хода, я — за ним.
Мы испортили ему день, отвезя на базу. Мы заставили его, хотя бы временно, прекратить избиение своей подружки. Ему пришлось сидеть на заднем сиденье патрульной машины, где пружины врезаются в зад, касаться подошвами дорогих сапог наших ковриков, сделанных из специального, устойчивого к блевотине пластика. Но Брайан заставил нас за это заплатить. В особенности меня, хотя и Джорджу пришлось его слушать.
Он распевал на свой лад мое имя и ритмично стучал каблуками по полу. Так иной раз ведут себя на стадионе футбольные болельщики, кричат и топают ногами. И все время сквозь проволочную стенку смотрел на меня, я это видел в зеркале заднего обзора, закрепленном между щитками.
— ДЖЕЙК-О-БЮ! — бам-бам-бам!'— ДЖЕЙК-О-БЮ! бам-бам-бам!
— Не хочешь завязать с этим, Брайан? — спросил Джордж. Мы уже подъезжали к базе. Практически пустой базе. К этому времени мы уже знали о происшествии в Потинвиле. Что-то сообщила нам Ширли, остальное узнали из переговоров других патрульных. — От тебя болят уши.
Брайан словно ждал этих слов.
— ДЖЕЙК-О-БЮ! — БАМ-БАМ-БАМ!
Если б он ударил каблуком чуточку сильнее, то наверняка прошиб бы днище, но Джордж больше не попросил его прекратить это безобразие. Если тех, кого сажаешь на заднее сиденье, просить угомониться, они только расходятся. Очень уж хочется досадить копам. С этим я сталкивался не раз и не два, но не часто приходилось терпеть такое от козла, который в школе выбивал книги из рук и отрывал карманы от рубашек, не говоря уж про скандирование моей фамилии.., противно ужасно. Словно переносишься в прошлое на машине времени.
Я ничего по этому поводу не сказал, но уверен, что Джордж чувствовал мое состояние. И когда он взял микрофон: «База, это Шестой, подъезжаем через минуту», — я понимал, что эти слова предназначались мне, а не Ширли. Мы ехали на базу, чтобы посадить Брайана в «Уголок плохишей», включить ему телевизор, будь на то его желание, сделать в журнале дежурного запись об аресте. Потом помчались бы в Потинвиль, если только тамошняя ситуация не изменилась бы к лучшему. А уж Ширли созвонилась бы с тюрьмой округа Стэтлер и сообщила, что у нас сидит один из их завсегдатаев, но пока…
— ДЖЕЙК-О-БЮ! бам-бам-бам! — ДЖЕЙК-О-БЮ!
Теперь он орал так, что лицо покраснело, а на шее вздулись жилы. Просто выходил из себя. Я уже представлял, как же будет хорошо, когда мы наконец избавимся от него.
Мы поднялись на Букингс-Хилл, где находилась наша база, Джордж ехал чуть быстрее, чем следовало. Нажал на клаксон, свернул на подъездную дорожку, практически не снижая скорости. Липпи понял, что концерт заканчивается, и, схватившись за проволочную сетку, начал ее трясти, продолжая барабанить сапогами а-ля Джон Уэйн по полу и вопить:
— ДЖЕЙК-О-БЮ! — бам-бам-бам! Дзинь-дзинь-дзинь!
Подъездная дорожка вывела нас к автостоянке у заднего фасада здания. Джордж обогнул угол здания, чтобы припарковаться у двери черного хода и мы быстренько и без суеты смогли препроводить старину Брайана в камеру.
Но когда Джордж обогнул угол, из двери черного хода, прямо под колеса, выскочил Мистер Диллон.
— Берегись, берегись! — закричал Джордж, то ли мне, то ли собаке, то ли себе, теперь уже никто не узнает. Вспоминая все это, я всегда думаю о том, что история практически повторилась в тот день, когда он сбил старуху в Лассбурге. Настолько все одинаково, будто тогда прошла генеральная репетиция, с одной лишь, пусть и значительной, разницей. Я задавался вопросом, не досаждала ли ему в последние недели жизни мысль: «С собакой я разминулся, а женщину сбил»? Может, и нет, но у меня, окажись я на его месте, она бы не выходила из головы. «С собакой я разминулся, а женщину сбил. И как можно после этого верить в Бога, если должно быть все с точностью до наоборот?»