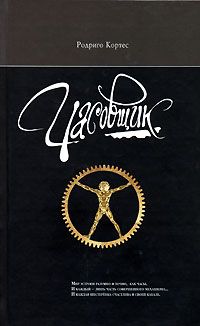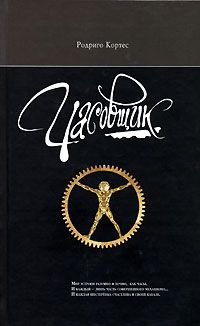— Не нравится мне это, — честно признал Томазо. — Мы так пятую часть ремесленников потеряем. У нас уже флот строить некому — всех мастеров эти дураки из Трибунала пожгли! Я и охнуть не успел…
— Дело Веры на полпути не бросишь, — углом парализованного рта — то ли печально, то ли иронично — улыбнулся Генерал. — Сам должен понимать.
Как только поездки прекратились, а сеньора Томазо оставили в Сарагосе, Бруно получил все. Но Часовщик не торопился и сначала просто ходил за патрулями Лиги, отлавливающими нарушителей нового закона.
Легионеры отнеслись к порученному Делу Веры ревностно. Останавливали всех встречных евреек, тут же в назидание другим срывали с них броши и бусы, отрывали воротники от пальто, замеряли ширину рукава и немедля распарывали в клочья, если скроенный по моде рукав превышал две ладони в ширину. А в конце, награждая визжащих евреек оплеухами, заглядывали под юбки. Смысла этого действия никто объяснить не мог, но качество женских чулок почему-то имело для Дела Веры решающее значение.
Сарацинам доставалось не меньше — особенно сельским. Бедолаги никак не могли взять в толк, почему им запрещено говорить на своем языке, носить свою одежду и приближаться к христианину, пока не позвали.
И только евангелистов, еще недавно ходивших по городу с нашитыми на груди и спине желтыми андреевскими крестами, день ото дня становилось все меньше. Понятно, что Лиге приказали выставить на дорогах посты, но вскоре и это стало всего лишь способом заработать. Бегущие в Швейцарию и Германию мастера не торговались и платили патрулям, сколько запросят.
И только когда нарушителей уже не осталось, Бруно с замирающим сердцем впервые вошел внутрь созданного по его проекту механизма — юдерию. И — Бог мой! — как же ему она понравилась! Чистенький, исполненный порядка квартал чем-то напоминал его родной город и одновременно — хорошо задуманные и грамотно исполненные куранты.
— Это можно было бы взять за основу всего, — потрясенно сообщил он сеньору Томазо. — Отличный шаблон!
— Не-ет… — рассмеялся тот, — нам нужен другой мир!
— Да, я знаю! — отмахнулся Бруно. — Но представьте это в виде часов: хорошая надежная рама — вокруг всего человечества! Жестко определенное место для каждого народа — так, чтобы никакого скрежета! Точно просчитанные обязанности людей-шестеренок! Правильно подобранные регуляторы хода в виде вождей и магистров! Разве это не прекрасно?!
Сеньор Томазо все еще улыбался, но Бруно видел: зацепило.
— Ты ведь что-то записываешь? — внезапно поинтересовался он.
— Да… записываю…
— Не дашь почитать?
Бруно замер. Добровольно принявший статус подмастерья Томазо Хирон хотел видеть чертежи — то, что не всякому мастеру можно показать.
— Дам.
Так было намного лучше, чем никак.
Амир переправился через Гибралтар на марокканском судне и прибыл в Африку поутру. В притихшей от перенесенных унижений и страхов толпе таких же, как он, беженцев двинулся в белеющий куполами мечетей город, но через полчаса на первой же развилке дорог их остановили солдаты.
— Из Гранады?
— Да… а что случилось? — завертели шеями беженцы.
— Вам — по той дороге, — указал рукой на восток военачальник.
— Но у нас есть больные, — тихо зароптали беженцы, — нам бы врача, да и просто отдохнуть…
— Вас там примут, — отрезал военачальник.
— А есть там врачи? — заинтересовались беженцы. — И вода… вода там в достаточном количестве есть?
— Там есть все, что понадобится, — твердо произнес военачальник.
Он подал всадникам команду растянуться двумя цепями — точно в направлении будущей стоянки, и совершенно измотанные качкой и переживаниями беженцы покорно потекли вперед меж лениво едущих по обе стороны от них солдат.
Но Амир насторожился. Он тоже устал и тоже был измотан, однако перед глазами все время возникал тот раб-христианин, которому он столь успешно вправил кишки. Каждую перевязку раб, видимо, чтобы не думать о дне сегодняшнем, рассказывал о том, что осталось позади.
— В Марокко чужаку делать нечего, — говорил он. — Чужак там — добыча. Ни вера не спасает, ни язык.
И от этого становилось тревожно, а когда тревога начала стучать в висках, он решительно повернул назад.
— Куда?! — приставил к его груди пику всадник.
— Я ухожу, — твердо произнес Амир.
Наконечник копья подался вперед, прорвал куртку, и по груди потекло горячее.
— Вернись в колонну.
Амир отскочил, поднял глаза и, опережая следующий тычок, ухватился за наконечник.
— Мы одной веры.
— Вернись, тебе сказано.
— У нас один язык.
— Вернись.
Христианин был прав.
И тогда Амир рванул копье на себя, ухватил древко обеими руками и волчком провернулся вокруг оси. И в тот самый миг, когда копье оказалось в его руках, раздался этот вой — со всех окрестных сопок.
— Ах ты! — выхватил всадник саблю, и Амир просто ударил его в лицо тыльным концом копья — как держал.
К повисшему в стременах всаднику ринулись на помощь, но Амир был намного ближе, а потому успел все: и взлететь в седло, и сбросить противника. Развернул вздыбившегося жеребца и в следующее мгновение мчался в сопку — как можно дальше от дороги. Проскочил под носом ринувшейся к дороге лавины всадников и только на самой вершине сопки развернулся.
Колонну беженцев уже выстроили и, судя по отдельным выкрикам, нещадно грабили.
Томазо получил от брата Хорхе почту со сводкой о начавшейся «очистке» беженцев из Арагона и Гранады. Из вложенного в пакет донесения агента Ордена в Марокко следовало, что вожди отказались делиться с главным поставщиком «товара». Это означало серьезный недобор в казну Ордена и рождение вопроса «кто виноват». Поскольку «марокканский вопрос» вплоть до отстранения курировал Томазо и отчасти Генерал, вся ответственность за провал лежала на них.
Брат Хорхе спал и видел, как бы спихнуть Генерала, а заодно уесть и его любимчика.
— Сволочь, — презрительно пыхнул Томазо.
У него были дела поважнее.
Записанные короткими абзацами, порой в сопровождении алгебраических формул и зодиакальных символов, наблюдения часовщика оказались на удивление интересны. Более того, они были весьма точны и даже практичны. Однако отдавать их в Рим в таком виде было немыслимо.
«И кто все это переведет на человеческий язык?»
Томазо мысленно перебрал всех в достаточной степени владеющих пером, астрологией и метафизикой и признал годным лишь одного — его тезку Томмазо Кампанеллу.