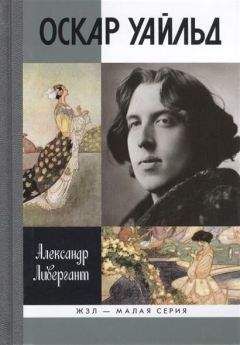Слушая его, Наташа одну за другой разворачивала картины. Все та же мрачная сила… но одна из картин была странной. Несколько минут она внимательно смотрела на портрет маленькой девочки — тусклый, невыразительный, безжизненный. Единственная из картин, не являвшаяся сгустком отрицательных эмоций, иллюстрацией какого-то порока — это был просто плохой рисунок, хотя создала его рука мастера. Наташа внезапно поняла — Неволин великолепно умел изображать человеческое зло, но рисовать то, что абстрактно именуют добром, было ему не по силам.
— … думал, что все обойдется… ты рисовала очень похоже, но без той силы… а потом ты вышла за этого дурака и поселилась прямо напротив дороги! Ты представляешь, каково мне было?! А когда ты принесла тот рисунок…
Наташа прижала ладонь здоровой руки ко лбу, потом заглянула в сундук. Засмеялась сухо и невесело и вытащила из него потрепанную старую книжку.
— Вот значит где ты спрятал Акутагаву?! Мне следовало догадаться! — она положила книгу на колени и собрала все письма. — Почему ты молчал, деда Дима?! Почему ты ничего мне не рассказал?! Ты хоть понимаешь, что ты наделал?!
— Рассказать?! — взвизгнул дед из-под одеяла. — И что?! Ты бы поверила?!
— Если бы ткнул носом в одну из картин — поверила бы!
— Конечно! И ты бы кинулась рисовать. И сейчас ты кинешься рисовать. Будешь наслаждаться тем, что умеешь! Ты же вся в него! Денег сделаешь… А кто-то испортит хоть одну из твоих картин… сама где-то ошибешься… Ты представляешь, что будет?! Ты хотя бы…
— А ты представляешь, дедушка, — Наташа встала и подошла к кровати, неотрывно глядя в блеклые широко раскрытые глаза за стеклами очков, — ты представляешь, что, если бы я узнала все гораздо раньше, три человека были бы сейчас живы! — она поднесла к его отпрянувшему лицу три жестко расставленных пальца. — Три! И еще один не сидел бы сейчас в дурдоме! Ты понимаешь, что это значит?! Почему тебе так на всех наплевать, старый ты трус?!! И те люди, которые погибли на дороге… может, кто-нибудь из них был бы сейчас тоже жив, если бы я начала рисовать раньше, если бы я… — Наташа судорожно сглотнула, опустила руку и устало добавила: — Не знаю, что там случилось на самом деле, но я, кажется, знаю, как это исправить.
— Нет, — лицо Дмитрия Алексеевича дернулось и губы затряслись, но голос был вкрадчивым, увещевающим и безумным, — нет-нет, Наташенька, милая, нет, не надо. Прошло столько лет, ты не сможешь… а вдруг ты сделаешь что-то, что-то, — он глухо откашлялся в одеяло. — Он вон чего наделал, а ты… с твоей-то… ты можешь все погубить. Пусть будет, как будет — на мой век, на твой век нам ничего не сделается… А потом пусть живут, как хотят, они…
— Да ты что? Деда Дима, ты что?! — Наташа отступила на шаг, глядя на него с ужасом и презрением. — Так ты не себя хранил, не меня — ее?! Она тебе нравится?! Там людей… а тебя это устраивает?! Ты спятил — да, конечно, только так!
— Пошла вон, гадюка! — зашипел Дмитрий Алексеевич, и его челюсть с остатками зубов мелко задергалась. — Ведьма! Жалеть я их должен, да?! А кто меня жалел?! Кто меня?!.. Я на двух войнах был, в лагере был, жена… бабка твоя со штабистом… сорок четыре года на государство родимое отышачил… И что?! Что я теперь имею?! Шесть дырок в шкуре, два осколка в спине, кучу болячек… да пенсия еще эта… Что мне пенсия эта?! Плевок ежемесячный от государства родимого, хрен разберешь какого! На что этого хватит — в магазин сходить два раза в месяц?! Жили, жили — нет, началось — перестройка-пересадка… спустили страну в сортир… раньше били… теперь еще и ноги вытирают, жируют на горбе… Пусть лучше дохнут! Накупили тачек себе — ишь, богатенькие! А на какие, спрашивается?! На мои же!.. Так пусть дохнут! Все дохнут! Все меня устраивает!
— Да, нашему государству на нас наплевать, — тихо сказала Наташа и отвернулась. — Ну и что это — месть? Ты думаешь, ты государству отомстишь таким образом? Ты же нам всем мстишь. Ты думаешь, от этого лучше кому-то стало? Тебе лучше стало? И сын твой там умер — тебе лучше стало от этого? А Надя? А Игорь? Они в чем виноваты? Все те люди — в чем они виноваты? Ты гнилье! Ты не человек, давно уже не человек — ты гнилье! Мне жаль, что ты мой дед. Мне жаль.
Она осторожно сложила письма и записку Андрея Неволина в пакетик, забрала книжку и взяла свою сумку. Дмитрий Алексеевич тихо и часто дышал за ее спиной. Наташа перекинула ремень сумки через плечо, открыла ее и повернулась к деду.
— Ты ведь понял, зачем я вначале пришла к тебе? — спросила она равнодушно. — Ты ведь понял, правда?
Ее рука протянулась и положила Дмитрию Алексеевичу на кровать два простых и безобидных предмета. Белый лист бумаги и карандаш.
Охнув, дед с неожиданным проворством перекатился по кровати и прижался к стене, глядя на бумагу с диким ужасом, точно это был клубок разъяренных змей. Наташа сухо рассмеялась, но тут же замолчала — в смехе прозвучало нечто, напугавшее ее, — наслаждение чужим испугом, наслаждение собственной властью — то, о чем предупреждали и Надя, и Анна Неволина, и сам Неволин.
… и нет превыше его…
Не растворись в своих картинах.
— Не бойся деда Дима, — она отвела глаза, чтобы не видеть его лица. — Я ничего тебе не сделаю. Но это, — Наташа постучала согнутым указательным пальцем по бумаге, потом подтолкнула на нее карандаш, — это останется здесь. Смотри и помни — я всегда могу вернуться.
Наташа взглянула на лежащие на полу картины, нагнулась и подняла один из кусков оберточной ткани.
— Может, ты сошел с ума из-за этих картин и страха своего, и жизнь тебя била достаточно… может… может, тебя и пожалеть надо, но что-то не могу я. Вот ты. А вот твоя комната. Живи, деда Дима, — сказала она так, словно произнесла грязное ругательство. — Живи.
Выходя из комнаты, Наташа нажала на выключатель, и в комнату плеснулась темнота, наполнила ее доверху, утопив в себе и разбросанные по полу картины, и застывшего на кровати Дмитрия Алексеевича, и чистый лист бумаги, и косо лежащий поверх карандаш.
* * *
На улице было жарко, но правая рука совершенно замерзла, словно одевшись ледяной перчаткой, и Наташа по-зимнему дышала на нее, поднеся ко рту. От пальцев резко пахло табаком. Этот запах ей всегда не очень нравился, но сейчас он был таким приятным, реальным, и она цеплялась за него — сигареты были постоянной частью ее существа уже много лет. Раз от ее пальцев пахнет табаком, значит она — это она, а не кто-то другой. А раз она — это она, значит нужно собраться с мыслями и прийти в себя. Нет мистики, нет — есть лишь определенные фрагменты человеческой сути, собранные в одном месте — это так же реально, как кучка ногтей или пучок волос, или, извиняюсь… Нет, нужно собраться, она уже утратила контроль не только над разумом, но и над поступками и чувствами — они словно жили сами по себе, находясь в постоянной борьбе и вытесняя друг друга. Только что Наташа горит в ярости, а спустя минуту ей становится скучно и хочется лечь спать, а потом она вдруг пускается в прогулку по городу глубокой ночью, а потом всю важность узнанного вытесняет хихиканье над неожиданно всплывшем в памяти старым анекдотом, потом возвращается острая боль из-за смерти Нади, а потом Наташа садится на скамейку на остановке и начинает листать книгу Акутагавы.