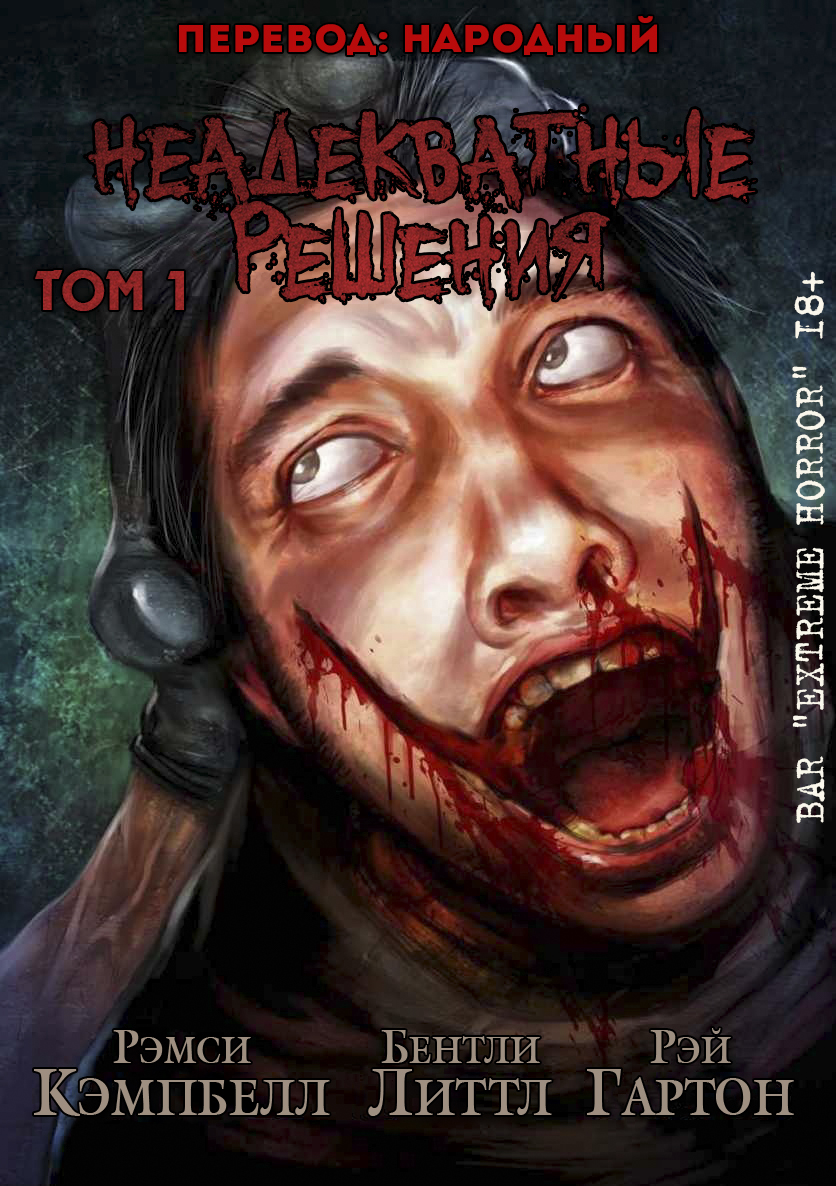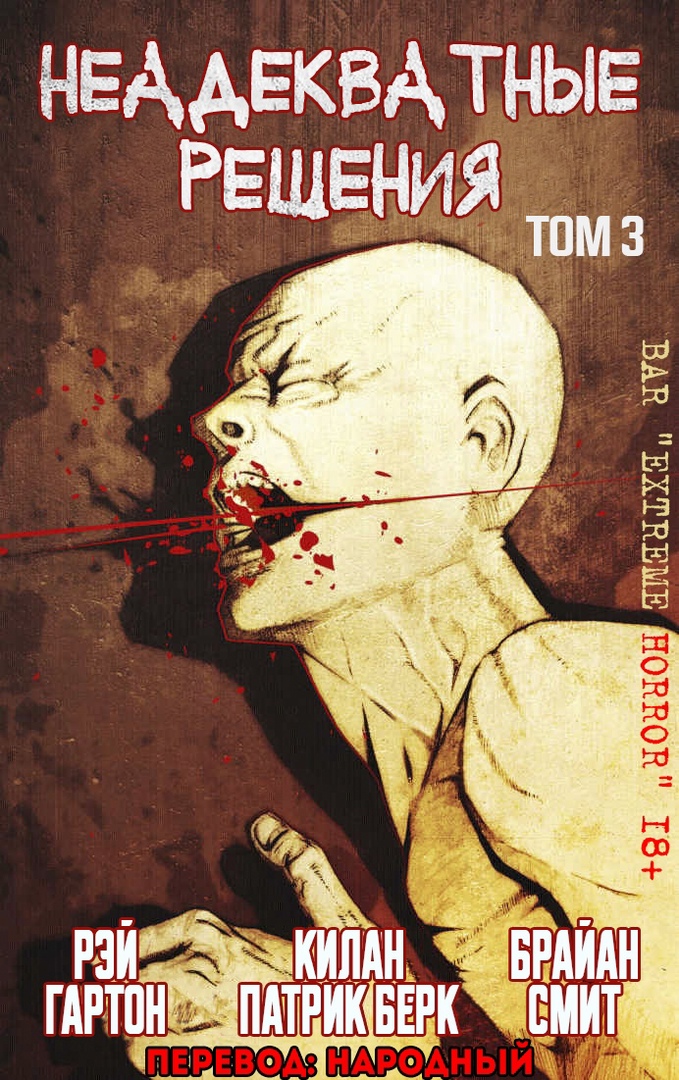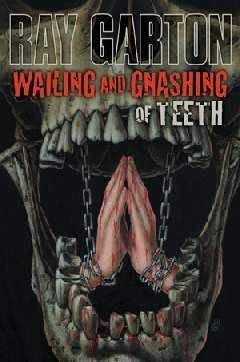задумки у меня есть. Меня пугает то, что я о них вспоминаю, но, если потребуется, я сделаю всё, чтобы заставить его признаться.
Я достаю из огня поварской нож. Жаростойкая ручка достаточно холодная, так что можно держаться за неё без прихватки.
Он смотрит на меня, затем зажмуривает глаза, и голова у него начинает дрожать.
Я не утруждаю себя вопросом насчёт дочери. Он либо ещё не готов к разговору, либо не намеревается говорить.
Начав с низа грудной клетки, я провожу раскалённым добела лезвием по его коже, выжигая на животе слова. Мне приходится несколько раз накаливать нож, чтобы закончить. Печатными буквами я пишу: «РАСТЛИТЕЛЬ ДЕТЕЙ». Вообще-то, получается не совсем аккуратно. Четыре строчки гласят:
РАСТ
ЛИ
ТЕЛЬ
ДЕТЕЙ
Затем, под словами, я выжигаю стрелку,
↓
направленную ему в пах.
Его кожа испещрена кровавыми порезами. Я лью воду ему на живот, но не для того, чтобы принести облегчение, а чтобы смыть кровь, так чтобы были видны слова.
Если бы у меня было больше времени (или мужества), я бы вырезала изображение дочери у него на лбу, чтобы он видел её в своём отражении до конца дней.
Кажется, он в отключке. Я проверяю и убеждаюсь, что он ещё жив. Знаю, что ни один порез или ожог не был достаточно опасным.
Он не мёртв. Он просто отрубился.
Я не трогаю его, так как не знаю, что с ним делать. Я просто хочу покончить с этим!
Знаю, что попаду в тюрьму за то, что делаю, но мне плевать. Это единственный метод узнать, как вернуть мою Ребекку.
Однако пока он не срабатывает.
Ставлю на плиту чайник, чтобы вскипятить воду для чая. Слышу снова его стоны; думаю, он очнулся. Я слегка смещаю скотч так, чтобы он мог дышать. Делаю это не из сочувствия, а просто, что он не сдох от удушья.
— Помогите…— раздаётся стон, от которого у меня стынет кровь в жилах. — Ожоги… они так болят. Пожалуйста, сделайте что-нибудь.
Что-нибудь сделать? Что бы мне хотелось сделать, так это швырнуть горячую грелку ему на живот.
— Можем прямо сейчас это прекратить, — говорю я. — Не заставляй меня продолжать.
Я близка к тому, чтобы зареветь и ненавижу себя за это. Он не стоит и слезинки. Он ведь будет думать, что я плачу из-за него.
Он пробует новый подход. Надувая щёки, он выплёвывает в меня слова, исказив лицо в безумной гримасе.
— Тронешь меня ещё раз, и я убью тебя и твоего сраного ребёнка!
Изо рта у него вылетают брызги слюны вместе с рвотой.
— Слышишь, ты? — орёт он. — Я живьём сдеру с неё её вонючую кожу!
— Снимешь с неё кожу живьём?
Он затыкает рот, возможно, поняв, что говорит лишнее, быть может, задумавшись, не заронит ли он мне в голову несколько новых идей.
Однако я не собираюсь сдирать с него кожу. Это, может, и заманчиво, но у меня не хватит смелости сделать что-либо подобное.
— Что ты с ней делал? — шепчу я. — Ты… трогал её?
У него вспыхивают щёки, а лоб покрывается каплями пота; он мотает головой. И вдруг я догадываюсь, что он с ней сделал. Пожалуй, я знала это всегда, но теперь вижу в его глазах, и понимаю, что выжженная на животе надпись соответствует истине.
Я беру метлу за черенок и сую её веником в пылающие угли; связанные прутья нагреваются докрасна и начинают трещать и постреливать.
— Что ты делаешь? — спрашивает он, вздрагивая от боли. Ему не видно моих движений, а я не собираюсь ничего объяснять.
Черенок метлы не очень толстый, но крепкий.
Я достаю из шкафчика с лекарствами склянку, затем вытаскиваю из камина черенок.
— Что ты делаешь? — снова спрашивает он, на сей раз более нервно. Пот градом стекает с его лица на подушку. Грудь вздымается, а дышит он быстро и неглубоко, словно запыхавшаяся собака.
— Где она? — я открываю склянку с вазелином и густым слоем, осторожно, чтобы не обжечь пальцы, наношу его на черенок.
Казалось бы, вазелин должен был охладить дерево, но это оказывается не так. Несмотря на расплавившийся вазелин, черенок остаётся горячим, так что его приходится наносить много. Я решаю использовать вазелин вовсе не для того, чтобы смазать его раны. Думаю, что с помощью вазелина я смогу лучше манипулировать своим инструментом и причиню больше вреда. Без вазелина дерево просто застрянет.
— Что это ты собираешься делать? — восклицает он, и я подхожу к кровати.
— Если скажешь мне где она, то мы с этим покончим!
Мне не хочется делать то, что я намереваюсь, я вовсе не плохой человек, однако положение у меня безвыходное.
Обдирая связанные конечности, он начинает рыдать и крутиться на кровати.
Я кладу черенок поперёк матраса и залепляю ему рот липкой лентой.
Затем поднимаюсь на ноги и снова беру черенок. Быстро натянув пару резиновых перчаток, смазываю пальцы вазелином и засовываю ему в зад. Он вырывается, но в любом из направлений может лишь едва шевельнуться. Он глубже втискивает пах в кровать, будто пытается с ней слиться. Но я пропихиваю ему под зад и бёдра, чуть пониже копчика, подушку, таким образом удерживая таз слегка под углом.
Не обращая внимания на неистовые судорожные дёрганья и приглушённые крики, я с силой втыкаю черенок в его задний проход и начинаю насиловать.
Шипят, сгорая, крошечные волоски. Потрескивает покрывающаяся ожогами кожа. Я наваливаюсь на черенок, увеличивая давление до тех пор, пока не убеждаюсь, что сжигаю ему прямую кишку, и надеюсь добраться до остального кишечника.
На голове его проступают вены, а руки и ноги натягиваются так сильно, что мне кажется, что он может разорвать свои оковы. Из заклеенного рта раздаётся несмолкаемый протяжный вопль, а шея выгибается почти под прямым углом так, что он практически касается лицом спинки кровати