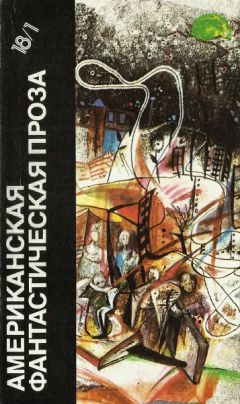И ведь что странно: простые истины отец изрекал так, что они казались печальными. В мире лжи бурливого города или бесцветной провинции звучание истины любого мальчишку завораживает. Сколько ночей доводилось Виллу грезить вот так, все органы чувств — словно остановленные часы задолго до того, как стихал напевный голос. Голос отца был полуночной школой, преподающей мудрые уроки, название предмета — жизнь.
Так было и в эту ночь: глаза Вилла закрыты, голова прижата к прохладной штукатурке. Сперва голос отца — глухие звуки конголезского барабана за тридевять земель. А вот голос матери — чистое, как родниковая вода, сопрано, которое звучало в церковном хоре и которое теперь словно пело ответные реплики. Вилл представлял себе, как отец, лежа на спине, говорит пустому потолку:
— Глядя на Вилла… я чувствую себя таким стариком… мужчина должен играть в баскетбол со своим сыном…
— Совсем не обязательно, — ласково отвечал женский голос. — Ты прекрасный мужчина.
— …да только возраст не тот. Черт возьми, мне было сорок, когда он родился. А взять тебя. «Чем занимается ваша дочь?» — спрашивают незнакомые люди. Господи, когда лежишь в постели, в голове какая-то каша. Черт!
Вилл услышал, как кровать отозвалась на движение отца, когда тот сел. Чиркнула спичка во мраке, раскурилась трубка. Окна задребезжали от ветра.
— …человек с афишами под мышкой…
— …Луна-Парк… — произнес голос матери, — …так поздно в году?
Вилл хотел отвернуться, но не смог.
— …самая прекрасная… женщина… в мире, — пробормотал голос отца.
Мама тихо рассмеялась.
— Ты ведь знаешь, что это не так.
«Да нет же! — подумал Вилл. — Это он в афише прочитал! Почему отец не скажет?!!»
«Потому, — ответил он сам себе. — Что-то происходит. Да-да, что-то происходит!»
Вилл увидел порхающий между деревьями листок, увидел слова «САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ», и лицо его обдало жаром. В голове у него вертелось: Джим, улица с Театром, окно, обнаженные люди на сцене этого Театра, какие-то диковинные жесты, как в китайской опере, чертовски странные движения, как в древней китайской опере, дзюдо, джиу-джитсу, индейская головоломка и убывающий в дреме голос отца, печальный, еще печальнее, самый печальный, и все так непонятно, слишком непонятно. Ему вдруг стало страшно оттого, что отец не захотел сказать про афишу, которую тайно сжег. Вилл поглядел на окно. Гляди-ка! Словно соцветия ластовня! В воздухе за окном плясал белый листок.
— Нет, — прошептал он, — так поздно в году не бывает луна-парков. Не может быть!
Он накрылся одеялом с головой, включил фонарик, раскрыл книгу. На первой картинке, которая предстала его глазам, доисторическая рептилия разгребала крыльями ночной воздух миллионы лет назад.
«Черт, — сказал он себе, — в спешке я ухватил книгу Джима, а ему досталась одна из моих».
Но ящер был великолепный.
Паря навстречу сновидениям, Вилл слышал, как внизу беспокойно ворочается отец. И вот хлопнула входная дверь. В этот поздний час ни с того ни с сего его отец отправился на работу — к своей метле или к своим книгам там в городе, далеко… далеко…
А мама знай себе мирно спит, не подозревая, что он ушел.
Никто другой на свете не мог похвастаться таким звучным именем.
— Джим Найтшейд. Это я.
Гордый собою, Джим, сотканный из рогоза, сейчас привольно лежал в постели, расслабив крепкие мышцы, тугие суставы. Библиотечные книги лежали нераскрытые возле покойных пальцев правой руки.
Он ждал, и сумеречного цвета глаза его окружали тени, которые, рассказывала мать, появились, когда он в трехлетнем возрасте чуть не умер, о чем и помнил до сей поры. Волосы его были цвета осенних каштанов, вены на висках, на лбу, на шее, на тонких руках, тикающие сосуды на запястьях — темно-синие. Он весь был расписан темными прожилками — Джим Найтшейд, мальчик, который с годами все меньше говорил и все реже улыбался.
Дело в том, что Джим смотрел на мир и не мог отвести взгляд. А когда вы всю жизнь не отводите взгляд от мира, то к тринадцати годам насмотрелись на такое количество исподнего, как другие за двадцать лет.
Что до юного Вилла Хэлоуэя, то его взгляд чаще всего обращался за, или в сторону, или поверх. Так что к тринадцати годам он насмотрелся всего лет на шесть.
Джим знал каждый сантиметр собственной тени, мог вырезать из черной бумаги свой силуэт, свернуть и поднять на флагштоке собственным знаменем.
Вилл иногда с удивлением обнаруживал сопровождающую его тень, но не задумывался над этим.
— Джим? Ты не спишь?
— Не сплю, мам.
Дверь отворилась, потом закрылась. Он ощутил, как прогнулась кровать под весом матери.
— Что это, Джим, у тебя руки как лед. Не надо открывать окно так широко. Помни о своем здоровье.
— Конечно.
— Не говори так — «конечно». Ты не знаешь, что значит иметь троих детей и сохранить только одного.
— У меня их вовсе не будет, — сказал Джим.
— Легко говорить.
— Я знаю. Я все знаю.
Она помешкала.
— Что ты знаешь?
— Нет смысла делать еще людей. Люди умирают. — Его голос звучал очень спокойно, тихо, почти печально. — И все.
— Почти все. Ты здесь, Джим. Без тебя я давно сдалась бы.
— Мам. — Долгое молчание. — Ты помнишь папино лицо? Я похож на него?
— В тот день, когда ты уйдешь, он уйдет навсегда.
— Кто уходит?
— Понимаешь, Джим, даже лежа здесь, ты так быстро бежишь. В жизни не видела человека, который и во сне двигался бы так энергично. Обещай мне, Джим. Куда бы ты ни успел — возвращайся с кучей детишек. Пусть растут здесь. Дай мне баловать их — когда-нибудь.
— У меня никогда не будет того, что может причинить мне боль.
— Ты собираешься коллекционировать камни, Джим? Не выйдет, настанет день, когда боль тебя не минует.
— Не настанет.
Он посмотрел на нее. Лицо матери не оправилось от давнего удара, метины вокруг глаз не разгладились.
— Ты будешь жить и не избегнешь боли, — произнесла она во мраке. — Но когда настанет час, скажи мне. Попрощайся по-доброму. Иначе я, быть может, не отпущу тебя. Разве это не ужасно — схватить и не пускать?
Внезапно она встала, чтобы затворить окно.
— Почему это вам, мальчикам, непременно надо, чтобы окно было распахнуто настежь?
— Кровь горячая.
— Кровь горячая. — Она стояла в одиночестве. — В этом источник всех наших печалей. И не спрашивай — почему.