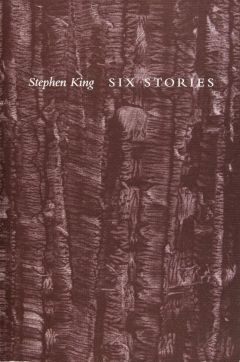Около часа дня какой‑то подросток с ватагой своих хохочущих, резвящихся и невидимых друзей окружают его. Слева из темноты голос говорит что Вилли мерзкий ублюдок и спрашивает — он носит перчатки потому что сжег свои пальцы пытаясь читать по горячей вафельнице? Он и его друзья взрываются от хохота над этой бородатой шуткой и завывая убегают. Пятнадцать минут спустя кто‑то толкает его ногой, хотя это может быть случайность. Периодически он наклоняется к чемодану и удостоверяется что он на месте. Это город жуликов, грабителей и воров, но чемодан на месте, как, собственно, и всегда.
И помимо всего прочего он еще думает об офицере Вилоке.
Коп до него был попроще, и тот который будет после — после ухода Вилока на пенсию или перевода его куда‑нибудь на север от Центра — тоже может быть поприятней. Вилок не вечен — еще одна вещь которую он уяснил в Наме — так что сейчас он, Слепой Вилли, должен просто прогнуться как тростник на ветру. Только иногда и тростник ломается…если ветер слишком сильный.
Вилок хочет больше денег, но не это волнует человека в черных очках и солдатской куртке. Рано или поздно они все хотят больше денег: когда он начинал работать на этом углу он платил офицеру Хэнратти сотню с четвертью, и хотя Хэнратти был попроще, ко времени своего увольнения на пенсию в 1989 он поднял ставку Слепого Вилли до двух сотен в месяц. Но этим утром Вилок был зол, и еще — Вилок консультировался со священником. Это беспокоило Вилли. Но что его взволновало больше всего так это слова Вилока о слежке за ним: «Посмотреть что ты будешь делать. В кого ты превращаешься.»
А это было бы легко — что может быть легче чем следить за слепым, за человеком который видит только тени вокруг себя? Увидеть как он заходит в отель (сегодня это отель подальше от центра города), как он заходит в мужской туалет, занимает кабинку? Засечь как он превращается из Слепого Вилли в простака Вилли, а может даже из Вилли в Билла? Мысли об этом вернули утреннее ощущение голой змеи при линьке. Страх, что он был сфотографирован, беря взятку, попридержит Вилока некоторое время, но если он достаточно сердит, невозможно предсказать что он вытворит. Вот это и пугает.
«Господь любит вас, солдат!», говорит голос из темноты. «Хотел бы дать больше, но, увы.»
«Ничего, сэр», отвечает Вилли, но мозг его занят Джаспером Вилоком. Который пахнет дешевым одеколоном и советуется со священником о слепом с табличкой, про которого Вилок думает что это вовсе и не слепой. Что он там сказал? Ты попадешь в ад, посмотрим сколько подаяний ты там насобираешь! «С Рождеством вас, сэр. Спасибо за помощь!» И день продолжается.
4:25 дня
Его зрение начало возвращаться — поначалу слабое и тусклое, но возвращалось. Это намек на то что пора собираться и уходить. Он становится на колени, с прямой как палка спиной, и поднимает свою трость. Он сворачивает последнюю порцию денег, бросает вместе с мелочью в потайной отдел чемодана, закрывает его и укладывает сверху свою украшенную фольгой табличку. Закрывает чемодан и встает, держа в руке трость. Теперь чемодан тяжелый и оттягивает руку под весом благодарности выраженной людьми в виде благородного металла. Раздается звон монет, принимающих новое положение, но, скатившись лавиной на дно, они теперь тихо лежат, как руда глубоко в земле…
Он идет вниз по 5–ой Авеню с чемоданом в левой руке, висящим словно якорь (после всех этих лет он привык к его весу, и может пронести его гораздо дольше обычного маршрута, если того потребуют обстоятельства), а в правой, осторожно прощупывая тротуар впереди себя, держа трость. Она, словно волшебная палочка, освобождает ему свободное пространство в толпе толкающих друг друга прохожих. Ко времени когда он подходит к перекрестку 5–ой и 43–ей он уже вполне обретает зрение. Он прекрасно видит блестящий и большой знак СТОЙ! на пересечении с 42–ой, но тем не менее продолжает идти, позволяя длинноволосому и хорошо одетому мужчине с золотыми цепями остановить его, вцепившись в руку.
«Осторожней, приятель!», говорит длинноволосый, «Сейчас машины двинутся»
«Спасибо, сэр.», произносит Вилли.
«Не за что. С Рождеством.»
Слепой Вилли переходит улицу, проходит еще два квартала, затем поворачивает к Бродвею. Никто с ним не заговаривает; никто за ним не тащится, из тех кто днем наблюдает как он собирает милостыню, а потом, улучив удачный момент, хочет отобрать чемодан (да и не каждый вор сможет бежать с этим чемоданом). Однажды, летом 91–го, двое или трое парней, кажется черных (он не был уверен, но голоса были как у черных, и зрение у него в тот день возвращалось медленно, как впрочем всегда летом, когда дни длиннее) пристали к нему с разговорами что он собственно не очень любил. То были ребята не похожие на сегодняшних — с шуточками о чтении горячих вафельниц, и не такие как набранные шрифтом Брайля парни в журнале Плейбой. Нет, они были поспокойней, и, что странно даже в некоторой степени добрей. Задавали вопросы о том, сколько он собрал стоя на паперти, и не расщедрится ли он случаем на благотворительный взнос в некую организацию под странным названием Развлекательная Лига Игроков в Поло, не желает ли он чтобы они его сопроводили до автобусной остановки или до станции метро или куда он там идет. Один, возможно подающий надежды сексолог, спросил, нравятся ли ему молоденькие девочки для развлечения. «Это бодрит», мягкий голос слева томно произносит, «Да уж, сэр, вы наверняка о таком дерьме думаете.»
Он чувствовал себя мышью с которой кошка просто играет — трогает мышь лапой, но когти еще не выпущены, ей интересно что мышь будет делать дальше, как быстро она побежит, как она запищит когда степень страха зашкалит. Но Слепой Вилли не был испуган. Он никогда не боится. Это плюс, так что они просчитались. Он просто повысил голос и, обращаясь к движущимся по тротуару теням, громко, словно разговаривая с друзьями в большом зале, сказал, «Скажите, кто‑нибудь видит поблизости полицейского? Кажется этот парень хочет меня снять.» И все, просто как снять кожуру с апельсина — парни что окружали его плотным кольцом растворились словно туман. Ему остается только мечтать о том, что проблема с офицером Вилоком так же легко разрешится.
4:40 дня
Шератон Готам, один из лучших отелей первого класса в мире, что находится на пересечении Сороковой и Бродвея, и по его вестибюлю под гигантской люстрой, словно в глубокой пещере, туда — сюда движутся многотысячные потоки людей. Они ищут здесь удовольствие, пытаются откопать клад, не обращая внимания ни на рождественскую музыку льющуюся из динамиков, ни на гул разговоров из трех ресторанов и пяти разных баров, ни на шелест обзорных лифтов, скользящих вверх — вниз в своих шахтах, словно поршни какого‑то экзотического стеклянного агрегата…А так же не замечая слепого, который пробирается сквозь эту толпу к мужскому туалету, огромному как станция метро. Он идет с чемоданчиком, повернув его наклейкой к себе, оставаясь анонимом настолько, насколько слепой может быть неизвестным и незаметным. В таком городе анонимность возможна.