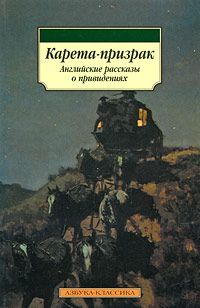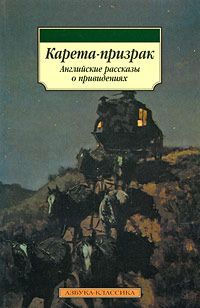Но зачем бы ему показываться мне, ведь он даже не подозревает о моем существовании, а если бы знал, что я за ним подглядываю, то, наверное, рассердился бы и ушел.
Он сидел лицом к окну так же неподвижно, как раньше за столом. Иногда он слегка шевелил рукой или ногой, и я застывала, надеясь, что он сейчас встанет, — но он не вставал. И я, как ни старалась, не могла разглядеть его лицо. Я щурилась, как старая близорукая мисс Джини, заслонялась руками от света, но все тщетно. То ли это лицо все время менялось, пока я смотрела, то ли было слишком темно, то ли еще что-то мешало, уж не знаю что.
Мне казалось, волосы у него светлые, — вокруг головы не было темного обрамления, а оно виднелось бы непременно, будь он брюнетом. Почти наверняка светлые — на фоне старой позолоченной рамы мне удалось это разглядеть. И у него не было бороды, я почти в этом уверена — контур лица был ясно виден. Света на улице еще хватало, чтобы хорошо рассмотреть мальчишку из булочной, который стоял на тротуаре напротив. Вот уж кого я непременно узнала бы где угодно; но только кому он нужен, этот мальчишка из булочной!
В этом мальчике могло привлечь внимание только одно: он бросался камнями во что-то или в кого-то. В Сент-Рулзе мальчишки, швыряющиеся камнями, — не редкость. Можно предположить, что была баталия, у парнишки остался в руках камень, и теперь он искал, куда бы им запустить, чтобы шуму было побольше и ущерба тоже. Но, по всей видимости, ничего достойного внимания на улице не обнаружилось, и поэтому мальчуган внезапно обернулся, прищелкнул каблуками, показывая свою удаль, и кинул камень прямо в окно.
Вместо звона бьющегося стекла послышался глухой стук, и камень отскочил обратно на тротуар. Я это видела и слышала, но не отдавала себе в том отчета. Мне было не до того, я смотрела во все глаза на фигуру в окне. Она была неподвижна, даже не шелохнулась, оставаясь, как и раньше, ясной, как день, и смутной, как ночь. А потом начало смеркаться; комната виднелась, но уже не так четко.
Я почувствовала, что тетя Мэри трогает меня за плечо, и вскочила.
— Душечка, — сказала она, — я уже два раза прошу тебя позвонить в колокольчик, но ты не слышишь.
— О, тетя Мэри! — вскричала я виновато, но при этом невольно вновь обернулась к окну.
— Поди, посиди где-нибудь в другом месте. — Тетя Мэри казалась почти рассерженной, а потом ее нежный голос зазвучал еще нежнее, и она поцеловала меня. — Звонить не нужно, душечка, я уже позвонила сама, и лампу сейчас принесут, но, глупенькая, хватит тебе все мечтать, твоя головушка этого не выдержит.
Я была не в силах произнести ни слова и вместо ответа указала на окно напротив.
Минуту или две тетя стояла, ласково похлопывая меня по плечу, и приговаривала что-то вроде: «Все пройдет, все пройдет». Потом, не убирая руки с моего плеча, добавила: «Все пройдет как сон». Я снова взглянула в окно и не увидела ничего, кроме матового прямоугольника.
Тетя Мэри ни о чем меня не спрашивала. Она отвела меня в комнату, к свету, усадила и заставила что-то читать для нее вслух. Но я не понимала, что́ читаю, ибо мной внезапно овладела одна мысль: я вспомнила глухой стук, раздавшийся, когда в то окно попал камень, и как камень отскочил и упал вниз, словно натолкнулся на твердый предмет, а ведь я своими глазами видела, как он ударился об оконное стекло.
Несколько дней я не находила себе места. Я торопила часы, с нетерпением ожидая вечера, когда снова увижу своего соседа в окне напротив. Я мало с кем разговаривала и ни словом не обмолвилась о донимавших меня вопросах и сомнениях: кто он, что́ он делает, почему почти никогда не появляется там раньше вечера. Кроме того, мне очень хотелось знать, к какой части дома относится та комната, где он бывает. Похоже, что к старой университетской библиотеке, как я уже говорила.
Окно, по-видимому, было расположено в ряд с окнами большого зала, но неясно было, относится ли эта комната к библиотеке, а также как ее обитатель в нее попадает. Я решила, что комната выходит в зал, а тот джентльмен — библиотекарь или один из помощников библиотекаря; возможно, он все дни напролет занят на службе и только вечером может сесть наконец за стол и заняться своей работой. Так ведь часто бывает: человеку приходится зарабатывать себе на пропитание, а в часы досуга он занимается тем, что ему по душе: изучает что-нибудь или пишет книгу.
Когда-то и мой отец так жил. Днем он был занят в казначействе[6], а по вечерам писал книги, которые принесли ему славу. Уж об этом-то его дочери хорошо известно! Но как же я была разочарована, когда в один прекрасный день кто-то показал мне шедшего по улице старого господина в парике и с понюшкой табаку наготове и заявил, что это библиотекарь из университета. Сначала я была поражена, но потом вспомнила, что у старого господина, как положено, должны быть помощники, и, вероятно, незнакомец — один из них.
Постепенно я уверилась в этом полностью. Этажом выше было окошко, которое, не в пример нижнему, тусклому и загадочному, вовсю сияло на солнышке и выглядело очень уютно и весело. Я придумала, что это окно второй комнаты его квартиры, что у него такая чудесная квартирка за красивым залом библиотеки, и книги рядом, и от людей в стороне, и тихо, и никто о ней не знает. Как же ему там удобно! А я вижу, как ему повезло и как он своим везением пользуется: сидит себе и пишет часами напролет.
Что за повесть он пишет или, может быть, стихи? При этой мысли сердце у меня забилось сильнее, но затем мне с огорчением пришлось признать, что не стихи: стихи так не пишут, не отрывая пера, не останавливаясь, чтобы подыскать слово или рифму. Будь это стихи, ему бы пришлось вставать, разгуливать по комнате или подходить к окну, как папе. Правда, папа не писал стихов; он всегда говорил: «Я недостоин и упоминать о столь великом таинстве». При этом он покачивал головой, а я преисполнялась величайшего восхищения, даже благоговения перед поэтами, которые выше самого моего папы.
Но мне не верилось, чтобы поэт мог вот так, не отрываясь, писать час за часом. Что же он тогда пишет? Может быть, историческое сочинение: труд очень серьезный, но, возможно, вставать и прогуливаться, смотреть в небо и любоваться закатом при этом необязательно.
Правда, время от времени он менял положение, но к окну никогда не подходил. Изредка, как я уже говорила, он поворачивался спиной к столу и подолгу сидел так в задумчивости. Это бывало, когда начинало смеркаться и в мире царил странный ночной день и его бесцветный свет, ясный и лишенный теней. «Это было меж ночью и днем, в час, отданный духам во власть».[7] Этот час, когда все видно особенно четко, следует за чудесным, долгим-долгим летним вечером. В этот волшебный час мне иногда бывает даже страшно; сами собой приходят странные мысли, и мне всегда казалось: имей мы глаза, чтобы видеть, перед нами предстал бы чудесный народец, являющийся в этот час на землю из иного, нездешнего мира. И мне верилось, что сосед их видит, когда сидит так и смотрит в окно, и мое сердце переполняло странное ощущение гордости: пусть я не вижу, но зато он-то все видит, и для этого ему не нужно даже приближаться к окну, как приходилось делать мне, когда я забивалась в свою нишу и неотрывно смотрела на него, надеясь узреть чудеса его глазами.