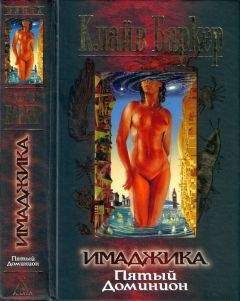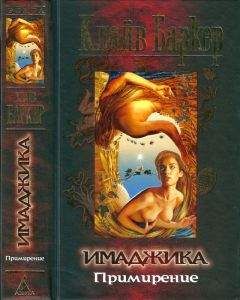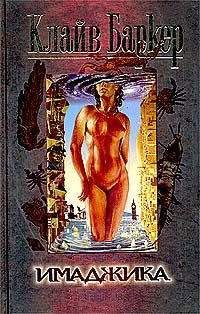— Спасибо, — кисло сказал Миляга.
— Ты же знаешь, что я прав. — Клейн включил свет. В комнате находилось три полотна, еще не оправленных в рамы. На одном из них была изображена обнаженная женщина в стиле Модильяни. Рядом был небольшой пейзаж под Коро. Но третье полотно, самое большое из всех, было настоящей удачей. На нем была изображена пасторальная сцена: три пастуха в классических одеяниях стояли, охваченные ужасом, перед деревом, в стволе которого виднелось человеческое лицо.
— Ты смог бы отличить его от настоящего Пуссена?
— Зависит от того, высохли ли краски.
— Как остроумно.
Миляга подошел, чтобы изучить полотно поподробнее. Он не был особым специалистом по этому периоду, но знал достаточно, чтобы оценить мастерство художника. Фактура была чрезвычайно плотной, краска положена на холст аккуратными равномерными мазками, тона наносились тонкими прозрачными слоями.
— Виртуозно, а? — сказал Клейн.
— До такой степени, словно это рисовал автомат.
— Ну-ну, хватит этих разговоров о зеленом винограде.
— Да нет, я серьезно. Эта штука чересчур совершенна. Если ты попытаешься ее продать, ничего хорошего из этого не получится. А Модильяни, к примеру, совсем другое дело…
— Это было всего лишь техническое упражнение, — сказал Клейн. — Я не собираюсь его продавать. Парень нарисовал еще только двенадцать картин. Я ставлю на Пуссена.
— Не стоит. Проиграешь. Не возражаешь, если я еще выпью?
Миляга пошел обратно в гостиную. Клейн последовал за ним, бормоча себе под нос.
— У тебя хороший глаз, Миляга, — сказал он. — Но ты ненадежный человек. Найдешь новую бабу, и поминай как звали.
— На этот раз все будет иначе.
— И насчет спроса я не шутил. Продать подделку стало почти невозможно.
— У тебя когда-нибудь были проблемы хоть с одной из моих работ?
Клейн задумался на некоторое время.
— Нет, — признался он наконец.
— Мой Гоген в Нью-Йорке. А нарисованные мной рисунки Фюзли…
— В Берлине. Да, ты оставил свой скромный след в истории искусства.
— Никто об этом никогда не узнает.
— Узнают. Столетие спустя станет видно, что твоему Фюзли всего только сто лет, а не столько, сколько должно быть на самом деле. Люди начнут исследования, и ты, мой Блудный Сын, будешь разоблачен.
— А ты будешь заклеймен за то, что платил нам деньги и тем самым лишил двадцатый век права на оригинальность.
— Пошла она куда подальше, твоя оригинальность. Ты ведь знаешь, что цена на этот товар резко упала. Можешь стать мистиком и рисовать Мадонн.
— Что же, так я и поступлю. Мадонны в любом стиле. Буду хранить девственность и рисовать Мадонн целыми днями. С Младенцем. Без Младенца. Плачущих. Блаженных. Я буду так работать, Клейни, что сотру себе яйца в порошок. Что будет в принципе не так уж и плохо, так как они мне больше не понадобятся.
— Забудь о Мадоннах. Они вышли из моды.
— О них забыли.
— Лучше всего тебе удается декаданс.
— Что твоей душе угодно. Скажи только слово.
— Но не подведи меня. Если я найду клиента и что-то пообещаю ему, твоя обязанность — выполнить заказ.
— Этой ночью я возвращаюсь в мастерскую. Я начинаю все сначала. Только окажи мне одну услугу.
— Какую?
— Брось Пуссена в печку.
За время связи с Ванессой он иногда заходил в мастерскую и даже пару раз встречался там с Мартиной, когда ее супруг отменял очередную поездку в Люксембург, а она была слишком возбуждена, чтобы потерпеть до следующего раза, но мастерская была скучной и унылой, и он с радостью возвращался в Уимпол-Мьюз. Теперь, однако, ее строгая атмосфера пришлась ему по душе. Он включил электроплиту и приготовил себе чашку фальшивого кофе с фальшивым молоком, что навело его на мысли об обмане.
Последние шесть лет жизни, прошедшие после разлуки с Юдит, были годами лицемерия и двуличия. Само по себе это было не так уж страшно — с сегодняшнего вечера двуличие снова станет его профессией, — но если его занятия живописью имели конкретный и осязаемый конечный результат (даже два результата, если считать гонорар), то ухаживания и домогательство всегда оставляли его ни с чем. Сегодня вечером он положит этому конец. Он дал обет Богу Обманщиков (кем бы тот ни был) и поднял за его здоровье чашку плохого кофе. Если двуличность — его талант, то зачем растрачивать его, обманывая мужей и любовниц? Не лучше ли применить его для более серьезных целей, создавая шедевры и подписывая их чужим именем? Время узаконит их, узаконит тем самым способом, о котором говорил Клейн. Его авторство будет раскрыто, и в конце концов в глазах потомков он будет выглядеть тем самым мистиком, которым он собирался стать. А если этого не произойдет, если Клейн ошибся и его рука так навсегда и останется неузнанной, то это и будет самой настоящей мистикой. На него, невидимого, будут смотреть, ему, неизвестному, будут подражать. Этого было достаточно для того, чтобы забыть о женщинах. Во всяком случае на эту ночь.
С наступлением сумерек облака над Манхэттеном, весь день угрожавшие снегопадом, рассеялись, и за ними открылось чистое, нетронутое небо, цвет которого обладал таким количеством нюансов и оттенков, что мог бы, пожалуй, послужить темой для философской дискуссии о природе синего. Сгибаясь под тяжестью дневных покупок, Юдит тем не менее решила вернуться в квартиру Мерлина на углу Парк-авеню и 80-й улицы пешком. Руки ее болели, но за время прогулки она могла еще раз обдумать состоявшуюся сегодня неожиданную встречу и решить, стоит рассказывать о ней Мерлину или нет. К несчастью, у него был ум юриста. В лучших своих проявлениях он был сдержанным и аналитичным, в худших — склонным к грубым упрощениям. Она знала себя достаточно хорошо, чтобы не сомневаться в том, что, если он разыграет второй вариант, она почти наверняка выйдет из себя и тогда атмосфера легкости и взаимной нетребовательности (если забыть о его постоянных приставаниях) будет безнадежно испорчена. Лучше сначала самой разобраться в том, что она думает о событиях, происшедших в последние два часа, а потом уж поделиться ими с Мерлином. А там уж пусть он анализирует их, как его душе угодно.
После того как она несколько раз прокрутила в голове эту неожиданную встречу, она, как и синий цвет над головой, приобрела неоднозначность и двусмысленность. Но Юдит цепко держалась за факты. Она была в отделе мужской одежды Блумингдейла, выбирала Мерлину свитер. В магазине было много народа, и ничего из того, что было выставлено на витрине, не показалось ей подходящим. Она наклонилась, чтобы подобрать выпавшие из рук покупки, а когда поднялась, заметила лицо человека, которого она знала и который смотрел прямо на нее сквозь движущееся людское месиво. Как долго смотрела она на это лицо? Секунду, ну максимум две? Достаточно долго для того, чтобы ее сердце успело рвануться из груди, лицо — покраснеть, а губы — открыться и сложиться в слово «Миляга». Потом людской поток между ними стал гуще, и он исчез. Она отметила взглядом место, где он стоял, помедлила секунду, чтобы подхватить покупки, и пустилась за ним вдогонку, ни секунды не сомневаясь, что это он.