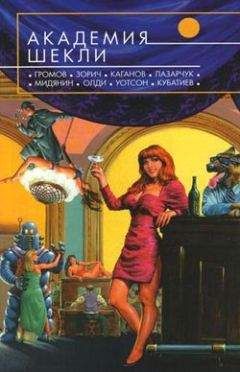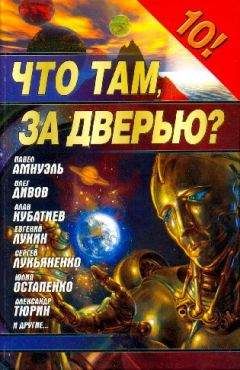– Ты выйдешь отсюда еще молодым человеком, – говорил Александр, – предыдущий хранитель был первым, и он добровольно принял многолетнее затворничество, поскольку мы занимались поисками новых подобных вам – и твоим воспитанием. Кроме того, первые хранители работали парой, подменяя друг друга.
Гораздо позже, через полтора года моей странной работы, я понял, зачем нужны были Анна, Эльза и Настя (и как раз догадался о том, что последняя тоже была подсадной уткой). Я понял это разумом – но с сердцем ничего поделать уже не мог, потому что моя королева была такой же – черноволосой, черноглазой, курносой, с круглым, милым личиком. Они хотели, понял я, чтобы я влюбился в королеву, чтобы рутинная работа превратилась для меня в дело первостепенной, сердечной важности. Они добились своего. Да, добились.
В один из дней я твердо осознал, что люблю мою королеву – такой, какая она есть.
Пять минут в день, двенадцать лет. Триста шестьдесят пять часов, пятнадцать суток непрерывных разговоров. Я рассказывал ей о мире, она слушала и рассказывала о том, что чувствует. Впрочем, она почти ничего не чувствовала. Парализованная ниже шеи, она не могла пошевелиться. Только повороты головы и движения губ. Теоретически она вообще не должна была просыпаться – просто что-то пошло не так.
Я рассказывал ей о городах, которых никогда не видел, об удивительных машинах, о других людях, и с каждым моим рассказом ей становилось хуже. Не физически, нет. Просто она впервые осознавала, чего лишена. Она была вовсе не такой отсталой, какой могла показаться с самого начала, нет. В том, как искаженно сформировалось ее сознание, в первую очередь виновата чудовищная система воспитательных домов и школ-интернатов, окончательно пришедшая в упадок в семидесятые.
Александра я видел редко, впрочем, как и остальной персонал. Я был избранным и находился на особом положении. Меня не допускали к детям, из которых готовили моих преемников, хотя я мог рассказать им много интересного. Я не очень-то и рвался, осознавая правоту Александра, – ведь он сделал из меня хорошего хранителя, верного своему посту вот уже двенадцать лет.
В один прекрасный день он вызвал меня к себе и сказал, что ровно через два месяца я буду свободен: мой преемник готов принять пост. С одной стороны, я обрадовался, с другой – осознал, что после отъезда никогда более не увижу свою королеву. Но я хорошо умел переживать утраты – и подавил в себе горечь разлуки. Я буду свободным – именно эта мысль заняла главное место в моем сознании. Приближался «час Ч», а я становился, как ни странно, всё более спокойным. Я не знал, как сказать королеве, что мое место займет другой человек (или даже люди). Но я без всяких волнений откладывал этот трудный разговор на потом, до лучших времен. А оставалось до них уже менее двух месяцев.
Нельзя сказать, что переломного момента не было. Просто он развалился на две независимые части, растянулся во времени. «Составной переломный момент» – можно ли так сказать? Можно. Первой составляющей был тот самый разговор с Александром, из которого я узнал, что королеву сменят. До смены оставалось немного времени, поскольку тело королевы отторгало всё больше и больше тьмы. Оно просто переполнялось.
Но не это сломало меня. Dura lex sed lex, и ради спасения мира я готов был пожертвовать собой, не говоря уже о своих жалких чувствах к умственно отсталой воспитаннице детского дома, тем более что о ее дальнейшей судьбе я знал всегда. Сломал меня диалог с самой королевой – один из последних.
Я отбил очередную атаку призраков тьмы – с каждым разом они становились чуть-чуть сильнее, видимо, запасы королевы и в самом деле были на исходе. А потом она спросила меня – наивно, по-детски:
– Так будет всегда?
«Я всегда буду лежать тут, просыпаться ежедневно и смотреть через янтарный экран на серый каменный потолок?» – она имела в виду именно это. И я ответил:
– Да. Ты всегда будешь находиться в таком состоянии. Вечность. Ты и сама знаешь об этом.
И тогда она сказала:
– Они не отпустят меня, отпусти ты. Ты же можешь, правда?
Самое страшное, что я – мог. Это было так просто. Так легко. Достаточно опустить руку, разжать черепаший знак и дождаться тьмы. Не охранить, не спасти, не сберечь. И тогда моя королева обретет долгожданный покой – а мир канет во тьму.
Они зря привели ко мне Анну. И Эльзу. И Настю. Они зря добивались того, чтобы я любил королеву. Они не поняли самого главного: только любящий может отпустить.
Сегодня последняя моя ночь в роли хранителя. Завтра мне на смену придет другой, а через несколько недель здесь появится новая королева. Шестнадцать лет, светлое дитя, обреченное на вечную жизнь в бескрайней пустоте. И ее новый хранитель, который состарится рядом с ней. И еще один. И, возможно, еще один, пока тело ее не переполнится тьмой, чтобы уступить место новой королеве.
В четыре часа я начинаю готовиться. Черчу условный узор, тщательно вывожу символы. Произношу предварительные слова и брызгаю на саркофаг моей королевы сладкой водой из подземного ручья. Ее зрачки шевелятся под веками, но она не просыпается.
И всё. Больше ничего не нужно. Когда они придут…
Я не знаю, что сделаю, когда они придут. Я обращаюсь к вам – тем, кто переживет апокалипсис, если я решу его инициировать.
Я обращаюсь к вам за советом, который вы не сможете мне дать. Как мне поступить? Отпустить ли ее, подарить ли ей смерть – это всепоглощающее прощение, нежную колыбель, лекарство от всех болезней? Погибнуть ли самому, когда бессчетные орды тьмы вырвутся из ее хрупкого тела и сотрут весь этот комплекс, весь этот лес, всю эту страну, весь этот мир? Или все-таки поднять руку и запретить призракам тьмы вход? Закрыть дверь в очередной, тысячный раз? Они уже приближаются, и я чувствую тепло в груди – верный вестник их появления. И я по-прежнему не знаю ответа.
Я знаю лишь одно. Чем бы я не пожертвовал, чем бы не поступился, какое решение бы не принял – мой выбор в любом случае будет верным.
Андрей Дашков
Ночной звонок
– Надеюсь, тема вас не смущает? – спросил профессор Самарин у свежеиспеченной аспирантки Антонины Шестаковой, не без лукавства взглянув на нее поверх очков.
В вопросе сквозила легкая ирония, за которой, похоже, скрывались симпатия и сожаление о давно минувшей молодости. Где твои семнадцать лет, как пел Владимир Высоцкий, которого обожал папа Антонины. Сама она папиного увлечения не разделяла, но кое-какие шершавые фразочки запали в память и то и дело всплывали – к месту и не к месту. Вот и сейчас ей пришлось сделать определенное усилие, чтобы выглядеть посерьезнее. Самарин Антонине нравился. Уютный такой дедуля, без пафоса, и в то же время достаточно заслуженный, чтобы ни у кого не возникло искушения вести себя фамильярно или легкомысленно.