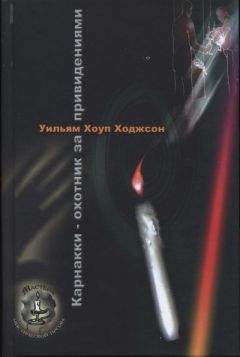Весло окунулось в воду… за ним опустилось другое. Голос прозвучал снова, в последний раз нарушая покой тонкого утреннего тумана, призрачного и скорбного:
— Да благословит вас Господь! Прощайте!
— Прощай! — закричали мы дружно, ощущая бурю чувств в своих сердцах.
Я огляделся. Оказалось, что уже наступил рассвет.
Случайный луч солнца осветил море, пронзив павший на него туман и окатив мрачным пламенем удалявшуюся лодку.
Я успел различить нечто, раскачивавшееся между весел. Ближайшим подобием была губка… большая, серая, шевелящаяся. Весла опускались и поднимались… серые, как сама лодка, и какое-то время я тщетно пытался разглядеть то место, где рука соприкасалась с веслом. Мой взгляд снова обратился к голове. Она ритмично вздымалась и опускалась с каждым взмахом весел. А потом весла в последний раз погрузились в воду, лодка скользнула из лежавшего на воде светового пятна, и… бывший человек растворился в тумане.
«Или, Или, лама савахфани»[8]
Далли, Уитлоу и я обсуждали страшный взрыв, происшедший недавно в окрестностях Берлина. В первую очередь нас удивляла наступившая после него тьма, вызвавшая столько газетных комментариев и целый поток теорий.
Газеты уцепились за факт, свидетельствующий о том, что военные власти экспериментировали с новой взрывчаткой, изобретенной неким химиком по имени Баумофф, постоянно именуя ее «новым взрывчатым веществом Баумоффа».
Мы находились в клубе, и четвертое место за нашим столиком занимал Джон Стаффорд, медик по образованию и сотрудник разведывательной службы. Во время беседы я пару раз поворачивался к Стаффорду, желая задать ему вопрос как человеку, лично знакомому с Баумоффом. Однако мне пришлось придержать язык, поскольку я понимал, что на заданный в лоб вопрос Стаффорд, парень хороший, но несколько нудный со своим тупым кодексом молчания, скорее всего ответит, что-де не уполномочен делать какие бы то ни было заявления по этому поводу. Я прекрасно знаю этого осла: если он произнесет подобную фразу, то заговаривать на эту тему с ним более не стоит до самого конца жизни. Тем не менее, я с удовлетворением заметил, что он как будто взволнован и стремится вставить собственное словечко; это позволило мне понять, что цитировавшиеся нами газеты, как всегда, переврали все, что касалось, по крайней мере, его приятеля Баумоффа.
И вдруг он заговорил.
— Какой наглый и злобный вздор! — с пылом проговорил Стаффорд. — Поймите, как это несправедливо и жестоко — связывать имя Баумоффа с военными изобретениями и прочими ужасами. Он был самым поэтичным и искренним последователем Христа среди всех знакомых мне людей; и только по жестокой иронии обстоятельств одно из рожденных его гением произведений было использовано ради разрушения. Но вы еще убедитесь в том, что они не сумеют воспользоваться формулой Баумоффа, хотя им и удалось захватить ее. Применение этого вещества в качестве взрывчатки нецелесообразно. Я бы сказал, что действие этой формулы слишком универсально, поскольку не существует никакого способа, позволяющего взять его под контроль.
Мне известно об этом более чем кому бы то ни было; так как я был у Баумоффа самым близким другом, и когда он умер, я потерял лучшего товарища на всем свете. Не стану делать из этого тайны перед вами, друзья. По долгу службы я находился в Берлине, куда меня отправили, чтобы вступить в контакт с Баумоффом. Правительство давно положило на него глаз; как вам известно, он занимался экспериментальной химией и проявил слишком большие способности, чтобы это можно было оставить без внимания. Однако бояться его не было никаких причин.
Я познакомился с ним, мы крепко сдружились; и я скоро обнаружил, что он никогда не направит свои способности на создание какого-нибудь нового оружия; поэтому, понимаете ли, я мог наслаждаться нашей дружбой со спокойной совестью — на что сотрудники мои способны отнюдь не всегда. О, я могу честно сказать вам, что дело наше коварно и полно обманов по своей сути; хотя оно и необходимо стране; в конце концов, кому-то приходится даже исполнять обязанности палача. Существует изрядное количество грязных дел, благодаря которым вращаются колеса общественного механизма!
По-моему, Баумоффа следует назвать самым пылким и умным сторонником Христа, равного которому просто невозможно представить. Я узнал, что он составляет трактат, содержащий самые чрезвычайные и убедительные доказательства всех необъяснимых фактов жизни и смерти Христа. Когда я познакомился с ним, он концентрировал все свое внимание на попытке доказать, что Тьма Распятия, воцарившаяся между шестым и девятым часами, была подлинной и обладала колоссальным значением. Он намеревался разом отмести все толки о вовремя пришедшей грозе и другие возникающих время от времени в той или иной степени невразумительные теории как не имеющие никакого значения.
За Баумоффом числилась некая распря с атеистом, профессором физики по имени Гаутч, который использовал чудесные факты из жизни и смерти Христа в качестве основания для нападок на теории Баумоффа, покушаясь на них как в своих лекциях, так и в прессе. Особенно едкому неверию он подвергал теорию Баумоффа о том, что Крестная Тьма представляла собой нечто большее, чем растянувшаяся на несколько часов облачность, превращенная во тьму восточным образом мышления и речи.
Однажды вечером, по прошествии некоторого времени после того, как дружба наша приобрела реальные очертания, я забежал к Баумоффу и застал его пребывающим в состоянии огромного возмущения какой-то статьей профессора, содержавшей самые свирепые нападки на его теорию значения Крестной Тьмы. Бедняга Баумофф!
Атака эта была исключительно тонкой, предпринятой весьма ученым и здравомыслящим логиком; человек этот был гением. Подобного титула способны удостоиться немногие, но Гаутчу он принадлежал по праву!
Баумофф принялся рассказывать мне о своей теории, а потом предложил, не сходя с места, провести небольшой эксперимент, подтверждающий его мнение. Походя, он сообщил мне несколько чрезвычайно заинтересовавших меня вещей. Напомнив мне для начала о том основном факте, что свет передается к глазу посредством не поддающейся определению среды, именуемой эфиром, он сделал и следующий шаг, указав, что с точки зрения более фундаментальной, то, что мы называем светом представляет собой вибрацию эфира, содержащую определенное количество волн в единице времени и создающую на нашей сетчатке определенное ощущение.
Я согласно кивнул, поскольку, как и все, прекрасно знаком с подобным утверждением. Основываясь на этом он немедленно предпринял новый шаг и сообщил мне, что во время великого эмоционального напряжения существует и невыразимо нечеткое, но измеримое потемнение атмосферы (большее или меньшее в зависимости от силы духа конкретной персоны), всегда наблюдающееся в непосредственной близости от человека.