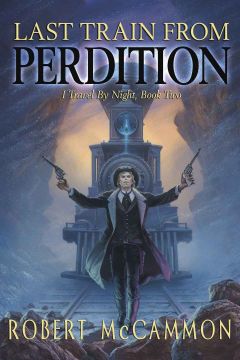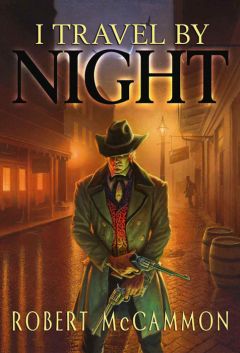как они и начались? «Тринадцать дней, – подумал Палатазин. – След все остывает и остывает. Чем он сейчас занят? Где прячется?»
И тут Палатазин вдруг осознал, что слышит какой-то посторонний шум. Тот звук, который, как он интуитивно понял, как раз и разбудил его.
Это был легкий, тихий скрип, будто кто-то прохаживался по полу возле кровати. Рядом снова шевельнулась и вздохнула Джо, погруженная в сон.
У Палатазина заледенела кровь. Он поднял голову.
В ногах кровати, перед окном, выходившим на Ромейн-стрит, вдоль которой стояли плечом к плечу, словно давние друзья, старые дома с деревянными перекрытиями, сидела в кресле-качалке Нина, мать Палатазина, сидела и раскачивалась взад-вперед. Она была маленькой, морщинистой и усталой на вид, но глаза ее сурово сверкали в темноте.
Сердце бешено заколотилось в груди Палатазина. Он сел, выпрямившись, и услышал свой собственный шепот, сначала на родном венгерском, а потом уже на английском:
– Anya… мама… Боже мой!
Взгляд матери остался непреклонным. Она словно бы пыталась что-то сказать, он видел, как шевелятся ее губы, а впалые щеки подрагивают от напряжения. Она приподняла слабую руку и махнула ею так, будто хотела, чтобы сын немедленно встал, словно бы говоря: «Опоздаешь в школу, лежебока».
– Что случилось? – спросил он с посеревшим лицом. – Что случилось?
Чья-то рука схватила его за плечо. Он охнул и обернулся, по спине забегали мурашки. Его жена, маленькая, милая женщина сорока с небольшим лет, с тонкими, как фарфор, костями, глядела на него затуманенными темно-синими глазами.
– Пора вставать? – еле ворочая языком, спросила она.
– Нет еще, – ответил он. – Спи.
– Что тебе приготовить на завтрак?
Он наклонился, поцеловал ее в щеку, и она положила голову обратно на подушку. Ее дыхание мгновенно успокоилось. Он обернулся к окну, и на лбу выступили бисеринки холодного пота.
Кресло-качалка стояло в углу, на своем обычном месте, и было пустым. На мгновение ему показалось, что оно дернулось, но, приглядевшись, он понял, что кресло не качается. И вообще не качалось. Еще один автомобиль проехал по улице, послав короткий отблеск света гоняться за вцепившимися в потолок тенями.
Палатазин долго смотрел на кресло, а потом снова лег на кровать. Натянул простыню до самой шеи. Мысли дико вертелись в голове, словно обрывки разодранной в клочья газеты. «Конечно же, это все давление. НАЙДИ ТАРАКАНА. Но я же видел ее, видел! Утром снова начнется беготня, опросы свидетелей и телефонные звонки. НАЙДИ ТАРАКАНА. Я видел, как моя мать сидела в этом кресле… День начнется рано, так что тебе нужно поспать… закрой глаза… я видел ее… закрой глаза… да, да, видел!»
Наконец веки отяжелели, и глаза закрылись. Сон принес кошмарную тень, которая преследовала женщину и маленького мальчика по равнине, заваленной высокими сугробами. Последняя связная мысль, перед тем как он бросился наутек по заснеженному полю, была о том, что мать умерла в первую неделю сентября.
Приблизительно в то же время, когда Энди Палатазин смотрел на пустое кресло-качалку, Митчелл Эверетт Гидеон, сорокачетырехлетний предприниматель высшего разряда, недавно избранный вице-президентом Клуба миллионеров Лос-Анджелеса, прикурил темнолистовую двухдолларовую сигару «Хойя де Никарагуа» от золотой зажигалки «Данхилл». Этот был бойкий низкорослый мужчина с объемистым брюшком и лицом, которое можно было бы посчитать невинным, как у Шалтая-Болтая, если бы не глубоко посаженные темные глаза и жесткая линия тонкогубого рта. Сидя в устланном золотистым ковром кабинете своего особняка в стиле пуэбло, располагавшегося в Лорел-Каньоне, Гидеон изучал полдюжины счетов, разложенных на антикварном столе из красного дерева. Это были счета на поставку самых обычных товаров: пара составов необработанных дубовых досок определенной длины и ширины, прибывших на фабрику в районе Хайленд-Парка; контейнеры с олифой и морилкой; несколько рулонов шелка от «Ли Вон и K°» из Чайна-тауна; тюки хлопкового тика; шесть бочек с бальзамирующей жидкостью.
– Чтоб вы подавились, грабители! – проворчал он, выдавая свое нью-йоркское происхождение простым скруглением языка. – Грязные, подлые грабители! Особенно Ли Вон. Пятнадцать лет веду дела с этим китайцем, – продолжил он, прикусив сигару. – А теперь вдруг старый усёрок в третий раз за год поднимает цену. Господи!
И остальные ничуть не лучше. Дуб в нынешние времена стоит столько, что можно без штанов остаться, и на прошлой неделе Винченцо со склада лесоматериалов братьев Гомес позвонил Гидеону, чтобы поплакаться о том, чем он пожертвовал, продавая товар так дешево.
«Задницей ты моей пожертвовал! – подумал Гидеон, жуя сигару. – Еще один чертов грабитель! Ну ничего, через два-три месяца наступит время перезаключения контрактов. Тогда и посмотрим, кто хочет иметь со мной дело, а кто нет!»
Он набрал полный рот дыма, выдохнул в потолок и смел со стола счета рукой с бриллиантовым кольцом на пальце.
«Накладные расходы в этом году просто убийственные, – сказал он себе. – Пожалуй, только одна бальзамирующая жидкость не взлетела в цене, хотя ребята из лаборатории Де Витта тоже угрожающе шумели об этом. Как, черт побери, вести достойную жизнь в такие времена?» Зажав сигару в зубах, Гидеон поднялся из-за стола, прошел в дальний конец кабинета и налил себя изрядную порцию «Чивас Ригала» из графина. Он был в отглаженных до хруста брюках цвета дубовой коры, огненно-алой рубашке, расстегнутой на груди и открывавшей вид на золотые цепочки на шее, и коричневых мокасинах от «Гуччи». На кармане рубашки белыми буквами была вышита монограмма: МГ. Прихватив с собой сигару и стакан с «Чивасом», Гидеон вышел через стеклянную дверь на длинную террасу с коваными чугунными перилами. Прямо под ним был пятидесятифутовый обрыв в темноту, заросшую деревьями и кустарниками, а слева едва различимые за густой стеной сосен мерцали огни дома другого обитателя каньона. Впереди, словно куча крикливых украшений, разбросанных по черному бархату стола, открывалась головокружительная панорама разноцветных огней – Беверли-Хиллз, Голливуд и Эл-Эй, справа налево и куда дотянется взгляд. Крошечные фары игрушечных автомобилей двигались по бульварам Голливуд, Сансет и Санта-Моника; неоновые огни дискотек, баров и рок-клубов на Стрипе пульсировали каждый в своем ритме. Извилистые улицы Беверли-Хиллз были унизаны сверкающими белыми искрами, как будто огромное множество звезд упало с неба на землю и теперь медленно угасало. Этот электрический гобелен прерывали черные квадраты парков и кладбищ. Гидеон вдохнул сигарный дым, наблюдая за тем, как светофор на Фаунтейн-авеню, размером с булавочную головку, сменил цвет на зеленый. Потом повернул голову на долю дюйма и увидел, как сверкающая голубая пылинка свернула по пандусу на широкую полосу Голливудского скоростного шоссе и помчалась в сторону Эл-Эй. «Миллионы людей там, внизу, – подумал Гидеон, – сейчас спят, пьют, дерутся, беседуют,