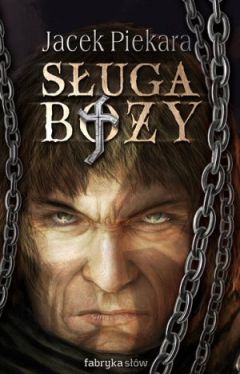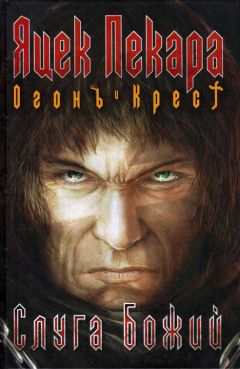И тогда, можете мне верить или нет, веки человека, который производил впечатление трупа, поднялись. По крайней мере, поднялось правое, незаплывшее опухолью.
— Смертух, — пробормотал он невнятно. — Раз так, то Смертух.
И сразу после этого его глаза вновь закрылись.
— Вот тебе и поговорили, Смертух, — пробормотал я, но меня поразило, что в том состоянии, в каком был, он пришёл в себя, пусть на столь краткий миг.
***
Купец принял меня в своём доме, но я пошел туда лишь в сумерках, чтобы не бросаться людям в глаза. Я не заметил, чтобы за мной следили, хотя, конечно, нельзя было исключить, что кто-то из людей Гриффо наблюдал за входящими в дом Клингбайла и выходящими из него. Однако и прятаться я не намеревался, поскольку разговор с отцом жертвы колдовства был совершенно естественной частью расследования.
— Признаюсь откровенно, господин Клингбайл, я не понимаю. Ба, я склонен сказать: ничего не понимаю.
— Чего же это?
— Гриффо ненавидит вашего сына. Однако он не противился осуждению его к тюремному заключению, вместо того, чтобы требовать приговорить его к смертной казни.
— Не знаю, что хуже, — прервал меня купец.
— Хорошо. Пусть горячая ненависть сменилась в его сердце холодной жаждой утончённой мести. Он желал видеть врага не на виселице, а гниющим в подземелье. Страдающего не два патера[28], а целые года. Но как вы объясните то, что он забил насмерть стражника, который ранил вашего сына? Что за свой счёт доставил известного лекаря из Равенсбурга?
— Хотел снискать ваше расположение, — пробормотал Клингбайл.
— Нет. — Я покрутил головой. — Когда узнал, что ваш сын был избит, он на самом деле был в бешенстве. Впрочем, формулировка «был в бешенстве» слишком мягкая. Он забил стражника. Абсолютно преднамеренно забил палкой, как бешеного пса.
— Если хотите надавить мне на жалость, не на того напали, — буркнул он.
— Не собираюсь давить вам на жалость. — Я пожал плечами. — Представляю вам факты.
— Продолжайте.
— Я узнал и о других вещах. Захарию давали больше еды, чем остальным узникам. Кроме того, ежемесячно в камеру приходил лекарь. Осмелюсь предположить, кто-то хотел, чтобы ваш сын страдал, но, в то же время, кто-то очень не хотел, чтобы ваш сын умер. И у меня ощущение, что это один и тот же «кто-то».
— Цель? — коротко спросил он.
— Именно, — сказал я. — Вот в чём вопрос! Что-то мне говорит, что тут нечто большее, чем лишь желание видеть врага униженным и страдающим. В конце концов, он должен был считаться с тем, что вам удастся выхлопотать помилование сыну. Вы ведь писали в имперскую канцелярию, а все мы знаем, что у Его Величества большое сердце.
Его Величество как раз имел мало общего с помилованиями, поскольку все зависело от его министров и секретарей, представляющих документы на подпись. Но, тем не менее, слышано о показных проявлениях милосердия императора. Пару лет назад он даже повелел выпустить всех узников, осужденных за мелкие преступления. Подобный акт милосердия не коснулся бы, правда, Захария, но означал одно: Гриффо Фрагенштайн не мог быть уверен, не попадёт ли вдруг в Регенвальд письмо с императорской печатью, приказывающее освободить узника. И тогда противление императорской воле было бы невозможным. Разве что у дерзкого бунтовщика появилось бы желание поменяться с Захарием местами и разместиться в камере нижней башни.
— Люди глупы, господин Маддердин. Не оценивайте всех по себе. Не думайте, что они руководствуются рассудком и заглядывают вперёд…
Эти слова поразительно напоминали предостережение, которое мне сделал перед отъездом Генрих Поммел. И, вероятно, в них было немало истины. Только вот, у меня была возможность узнать Гриффо Фрагенштайна. Он был богатым купцом, известным совершением удачных и надёжных сделок. Такие люди не зарабатывают состояние, не заглядывая в будущее и не анализируя операции конкурентов. Я сказал об этом Клингбайлу.
— Трудно с вами не согласиться, господин Маддердин. Однако я по-прежнему не понимаю, куда вы клоните.
— Гриффо нужен живой Захарий. Измученный, униженный, ба, даже не в своём уме, но, несмотря на всё это, живой. Зачем?
— Вы мне ответьте, — буркнул он раздражённо. — В конце концов, я за это плачу.
Я покачал головой.
— «И познаете истину, и истина вас освободит»[29], — ответил я словами Писания, имея в виду то, что когда познаю истину, сын Клингбайла сможет насладиться свободой. Купец понял мои слова.
— Да поможет вам Бог, — произнёс он.
— Господин Клингбайл, до сих пор я занимался вашим сыном. К счастью, пока он в безопасности и ему ничего не грозит, кроме болезни, с которой, будем надеяться, справится. Сейчас я должен заняться кое-кем другим. Что вы знаете о сестре Гриффо?
— О Паулине? Здесь все всё знают, господин Маддердин. И, конечно, все сказали бы вам то же самое. Упрямая будто осёл, пустая как бочка из-под квашеной капусты. Презирала тех, кто не мог принести ей пользы. Никого не уважала, а ноги раздвигала перед каждым, кто ей приглянулся.
— Ну, это всё я знаю, — улыбнулся я. — Как долго ваш сын с ней встречался? Любил её?
— Любил, — ответил купец после длинной паузы. — Знал обо всём, но всё-таки любил.
— Потребовал сугубого, кто знает, может того же супружества, она не согласилась, и тогда он её зарезал. А?
— Вы должны защищать моего сына или обвинять его? — Он посмотрел на меня угрюмым взглядом.
— Я должен отыскать истину, — мягко напомнил я ему. — Кроме того, ведь именно в этом он признался. Разве нет?
— Признался! — фыркнул Клингбайл. — Хороший палач заставит допрашиваемого признаться даже в том, что он зелёный осёл в розовые крапинки!
— Это хорошо! — Я рассмеялся шутке и решил, что запомню её. Но тотчас посерьёзнел: — Вашего сына не пытали. Ведь знаете… Он по собственной воле всё рассказал и сознался в убийстве.
— Нет, — купец ответил чётко и решительно. — Я никогда в это не поверю.
— Подожду, пока придёт в себя, и поговорю с ним, — сказал я. — Только не знаю, изменит ли это хоть что-нибудь. У неё были друзья? — я вернулся к Паулине. — Или наперсница сердечных тайн?
— Она не любила людей, господин Маддердин, — он покачал головой. — Я не слышал ни о ком таком. Лишь Гриффо по-настоящему был близок с ней. Разные вещи люди болтали об этой парочке…
А-а, вот где собака… — пробурчал я немного погодя. Кровосмешение было грехом и преступлением может и не повсеместным, но слышали там и тут о братьях и сёстрах, живущих как мужья с жёнами, об отцах, блудливо шалящих с дочками. Не говоря уже о греховных отношениях, связывающих кузенов, а также шашнях отчимов с падчерицами или мачех с пасынками. В некоторых случаях такие отношения карались смертью, в других хватало порки, совмещённой с публичным покаянием. Однако Гриффо и Паулина, всё же имеющие общего отца, были бы заклеймены и повешены, если б только их греховные делишки раскрылись. При условии, что кровосмешение в их случае действительно имело место, а не было лишь выдумкой завистников и клеветников.