— Ведь я ни разу не благодарил тебя, как следовало бы, за эти дивные, сочные, вкусные воспоминания, дружок. — И снова эта горечь в голосе грифона… — Для того, кто был сотворен лишь для услужения, для того, кому поручено дело длиной в несколько веков, даже та свобода, которую он имеет из чужих воспоминаний, — это лучше, чем никакой свободы. Боль, тревога, страх, печаль… Я купался в этих чувствах, словно они принадлежали мне. Я не мог жить среди людей, не мог стать одним из них, но я мог переживать твои чувства, питаться твоим опытом… и я делал это.
Вопль протеста при рождении на свет. То воспоминание, которое Григорий видел, когда углубился в память Терезы, приобрело новый смысл. Николау начал понимать, какая жизнь была уготована творению Михася. Несколько столетий службы повелителю, невозможность ни внешне, ни внутренне увильнуть от этой службы. Фроствинг никогда не смог бы жить среди людей — в этом не приходилось сомневаться.
Он отбирал у Григория воспоминания, чтобы таким образом познавать мир. Григорий готов был ему посочувствовать, но не одобрял того способа, которым грифон приобретал эти познания. Фроствинг в итоге получал некое подобие жизни, а Григорий терял свое прошлое. Наверняка можно было придумать что-то другое, но, похоже, грифону было лень этим заниматься.
Фроствинг склонил голову и прошептал на ухо Григорию:
— Ты хочешь, чтобы я тебе все выложил. Хочешь правды. Я отбирал у тебя воспоминания целиком и по частям, дружочек, и я понимаю, что этим порой очень докучал тебе. Но будет! На этот раз я не стану кормиться! На этот раз я одарю тебя!
Грифон обхватил голову Григория когтистой лапой, крепче обнял своего пленника.
— Теперь я по доброй воле отдам тебе все… а тебе только нужно будет забрать это у меня…
Разум Григория наполнили образы.
Они хлынули бурным потоком. Нужно было только не заблудиться, не потеряться в хаосе собственного сознания.
Мало-помалу образы начали упорядочиваться. Он вновь увидел падение башни, но на этот раз стал его свидетелем сначала с высоты ворот, а затем — откуда-то сверху, с высоты птичьего полета, наверное. Арка ворот, ведущих к башне, как заметил Григорий, была точно такая же, как возле дома. А потом земля со страшной скоростью полетела ему навстречу, отчего у него дико закружилась голова. В ужасе смотрел он на разбитое, изуродованное тело. Он помнил, что говорил Фроствинг о теле Михася — о том, как победители сбросили его с вершины башни. Все-таки странно, что тело не пострадало еще сильнее, учитывая, с какой чудовищной высоты оно падало.
А потом он вспомнил, что это был не труп, а еле живое существо. Он.
Другие воспоминания. Кто-то ухаживал за его телом… Фроствинг? Та искорка жизни, которая каким-то образом сберегла тело при падении, разгоралась, становилась все ярче. Как же там сказал грифон… крошечная частица не желала умирать, поскольку, как гласила пословица, «пока живу — надеюсь»? Уж лучше хотя бы песчинка надежды, чем погружение в полную неизвестность.
Оставалось в некотором роде благодарить грифона за то, что этой надежде суждено было сбыться.
И опять — воспоминания. Тело выжило, но разум был чист, как белый лист. Искорки жизни не хватило для того, чтобы сохранить личность древнего мага. Теперь на свете жил взрослый ребенок, обладающий возможностью снова стать повелителем людей, могущественным чародеем.
Двойная игра. В данном Фроствингу приказе обнаружилась возможность лавировать. Он обязан был сохранить рассеянный по чужим телам дух своего господина и осуществить его грандиозный замысел, но разве то существо, которое он спас, не было также его господином и повелителем?
Сомневаться не приходилось: Фроствинг ненавидел Михася, а как следствие — и того человека, который стал носителем тела могущественного злого колдуна. Этот летающий кошмар не видел большой разницы между тем и другим — ведь искорка жизни так или иначе изначально принадлежала тому, кто создал грифона, и кого тот терпеть не мог. Тем не менее обязанность оберегать своего господина не позволяла Фроствингу причинить хоть малейший вред его телу. Непрестанные муки — вот единственное, чем мог грифон изводить ни в чем не повинного Григория, но в этих муках он в конце концов и преуспел. Ведь, что ни говори, а он все-таки был сотворен самим Михасем.
Однако было в этой истории и еще что-то, что пока оставалось скрытым. Григорий чувствовал это. Фроствинг на что-то намекал. Николау достаточно хорошо знал его, чтобы догадаться: его мучитель свел вместе тело и душу Михася с какой-то целью, и в случае ее осуществления грифон должен был выиграть. Одновременно он неким образом исполнял приказ своего повелителя.
И снова бурная волна воспоминаний. Фроствинг, столь ограниченный в движениях, появился в его снах, когда он был еще совсем молод, и убедил его поселиться в небольшой деревушке, жители которой понятия не имели о Михасе. Крестьяне дали кров и пищу здоровому юноше, который, как они сочли, немного не в своем уме. К их удивлению, юноша выказал необычайные способности в учебе, и через пару лет его ум и физическая сила сравнялись. Все это время грифон старательно прислеживал за ним.
Он начал являться ему во сне с той поры, когда у юноши начали просыпаться способности к колдовству. В то время он жил у приемных родителей, которые дали ему имя, после небольших изменений впоследствии превратившееся в Григория Николау. Как он и ожидал, деревушка располагалась в нынешней Румынии, неподалеку от Трансильвании. Убедившись, что его подопечный освоился с жизнью в мире людей, Фроствинг принялся проводить в жизнь свою теорию агрессивной обороны.
Григорий видел, правда, не слишком отчетливо, людей, которые изгнали ничего не понимающего юношу из деревни с криками: «Демон!» и «Злыдень!» Вот так начались мытарства Григория, которым было суждено продлиться несколько столетий. Фроствинг выковывал его характер по своему усмотрению, стращая и закаляя его. Сохранить Григорию жизнь на протяжении столь долгого времени — это было не менее грандиозной задачей, чем та, которую поставил перед грифоном Михась, но только этим трудом Фроствинг и мог себя хоть как-то развлечь.
Какую же цель преследовал грифон?
По истечении семи столетий крылатый демон более не смог держать своего подопечного в безоговорочном повиновении. Он сломил его волю, во многом сломил, и все же Григорий продолжал сопротивляться, как бы это ни казалось бесполезно.
Но если Николау подвел грифона, то почему же он здесь? В наказание за то, что не стал таким, как тот хотел?
Оставалось еще слишком много вопросов, но теперь Григорию казалось, что ответы на них захоронены где-то в глубинах его сознания и только ждут, чтобы он раскопал их.
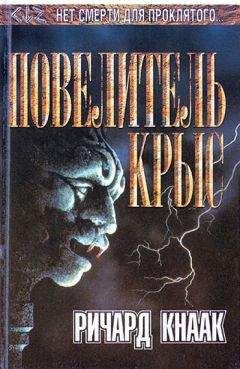
![Линкольн Чайлд - Доведенный до безумия [Gaslighted]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)
![Линкольн Чайлд - Доведенный до безумия [Gaslighted]](https://cdn.my-library.info/books/82283/82283.jpg)

