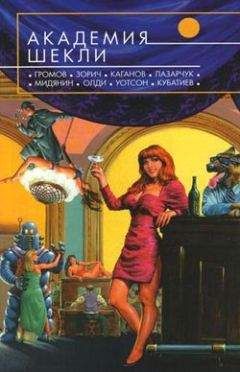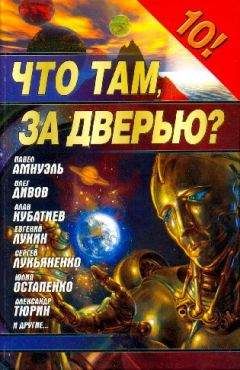Они медленно прошли по коридору и спустились по лестнице. Старик опирался на ее руку и всё равно едва переставлял ноги, но она почти не ощущала его веса, будто несла плащ на локтевом сгибе.
На улице сгущались сумерки. У подъезда стояла серая «Волга», блестя никелированными колпаками, антенной и оленем на капоте. Антонина с Воробьевым уселись сзади, Игорек мягко тронулся с места. По радио пел Муслим Магомаев: «…Мы на чертовом крутились колесе… В колесе… В колесе… А теперь оно во сне».
– Игорек, я тебя умоляю! – сказал Воробьев.
Племянник покрутил ручку настройки, и раздалась совсем другая музыка, которой Антонина прежде не слышала. Она подозревала, что подобной музыки (да чего там – рок-музыки) вообще не могло быть в эфире советской радиостанции. Возвышенные, печальные и какие-то запредельные, эти звуки сильно подрывали веру в светлое будущее. Сдавшая кандидатский минимум Антонина знала английский язык достаточно, чтобы разобрать слова: «Confusion will be my epitaph…» Далее – не поняла, а потом грянул апофеоз: «But I fear tomorrow I’ll be crying!.. Yes I fear tomorrow I’ll be crying…»[1]
Но и это не имело значения – там и тогда. Старик счел должным заметить:
– Кто-то будет рыдать, а кто-то будет смеяться. – Тут он издал короткий смешок, словно давая понять, что сделал свой выбор. – Но вот в чем загвоздка: какое утешение в том, чтобы смеяться последним, когда все уже оплаканы?
Кажется, Антонина сказала, что подумает над этим.
– Конечно, подумаете, детка, – ласково пообещал Воробьев. – Вот только мы всегда опаздываем с такими мыслями. Я не о прошлом, я о будущем.
– Дядя, не мог бы ты… – начал Игорек.
– Ладно-ладно, молчу.
Они ехали по пустеющим улицам. Магазины уже были закрыты, стайками шаталась молодежь, владельцы собак выгуливали своих питомцев. Песня заканчивалась как заупокойный гимн по всему человечеству – Антонина отчетливо понимала это, однако ни малейшего сожаления не испытывала. Ее, как говорится, не проняло. Теперь же, сидя на кухне и с трудом вспоминая обрывки той мелодии, она поражалась тому, как радикально изменила ее восприятие неведомая химия. В той машине она ничего не боялась и не ценила свою юную цветущую жизнь. Родители, брат, подруги, карьера – всё отодвинулось куда-то, сделалось бессодержательным, как предложение с переставленными словами.
«Волга» въехала в частный сектор. Стало еще меньше фонарей, людей и бродячих собак. По радио заголосила Людмила Зыкина, и предыдущая песня уже казалась бредом (а теперь, после утренней чашки чаю – тем более). Игорек остановил машину в конце улицы. Дальше они побрели втроем, поддерживая старика с обеих сторон, и, наверное, смахивали с некоторого расстояния на дружное семейство из двоих относительно трезвых и одного перебравшего.
У Антонины даже мысли не возникало поинтересоваться, а куда, собственно, они направляются. Близкая ночь обволакивала, как наркоз; первые звезды отчего-то напоминали светящиеся точки на потолке, что возникали при включенном детском ночнике, и вся вселенная была доверху заполнена инфантилизмом.
Долго взбирались по довольно крутой металлической лестнице. Воробьев дважды останавливался и, отдышавшись, просил Игорька, чтобы тот его пристрелил. Антонина хихикала. Племянник в первый раз тоже хихикнул, а во второй посмотрел на дядюшку так, словно с удовольствием пристрелил бы – было бы из чего.
Наконец впереди показались разновысокие ограды и могильные камни. Антонина не удивилась – всякая прогулка когда-нибудь заканчивается. Но старик сказал, что всё только начинается. Они стали пробираться среди могил. Иногда тропа делалась слишком узкой, и они ступали друг за другом. Зато Воробьев заметно приободрился и двигался без посторонней помощи, лишь иногда перебирая руками по прутьям оград, будто огромный паук.
Попутно Антонина услышала много чего интересного и полезного об эпитафиях. Теперь она жалела, что не запомнила и четверти рассказанного. Незаменимый Игорек имел при себе электрический фонарик, подсвечивал путь и надписи на могильных плитах, на которые профессор обращал свое компетентное внимание. Он захотел кое-что продемонстрировать Антонине «на живом примере», хотя сам тут же поправился: «на мертвом». И продемонстрировал. В частности, она запомнила надпись на могиле без имени и дат, гласившую: «Я тоже думал, что жил. Не ошибитесь дважды». Прочитав, она задумалась и дала себе зарок не ошибиться. Правда, она слабо представляла, что для этого нужно делать и как жить. Сейчас, на собственной кухне, – тем более.
Они выбрались на широкую аллею, возможно, главную. Ухоженные могилы по обе стороны поблескивали полированным гранитом. Справа потянулась череда воинских захоронений. Затем они свернули на извилистую тропу. Судя по датам на камнях и табличках, это была самая старая часть кладбища. Воробьев чувствовал себя как дома. Он то и дело останавливался, чтобы указать Антонине на здешние откровения, многие из которых, похоже, знал наизусть. Сейчас она с трудом вспомнила только две эпитафии. Одну – на плите с изображением штыка и каски: «Нам говорили: умрите за… Оказалось, мы умерли вместо». Другую, короткую и душераздирающую, – на могиле тринадцатилетнего подростка: «Кукушка обманула».
При свете дня Антонине не верилось, что она в самом деле видела это. Она хотела бы проверить, но сомневалась, что найдет нужное место. И тем не менее – удивительное дело – ей вдруг захотелось вернуться на кладбище. При мысли об этом, будто вид на анфиладу комнат, всплыла очередная порция воспоминаний.
Старая кирпичная стена была в полтора раза выше человека среднего роста. Днем густые деревья закрывали стену от солнца, и сейчас от нее несло сыростью. По другую сторону угадывалась спящая улица. Антонина решила, что экскурсия закончилась. Погуляли с обоюдной пользой – сердечнику явно полегчало. Она приготовилась поблагодарить Воробьева и его племянника, а затем отправиться в обратный путь. Но эти двое не спешили. Игорек выключил фонарик, из чего следовало, что эпитафиями здесь не разживешься (неужели она так быстро переняла от старичка этот его непринужденный черный юморок?).
Ее спутники держали паузу. Довольно дешевый прием, но действует безотказно, особенно в соответствующей обстановке. Даже до Антонины в ее тогдашнем состоянии дошло, что эти двое то ли чего-то ждут от нее, то ли ждут кого-то еще… А теперь, на кухне, ей стало страшно от своей глупости и беспечности.
Наконец Воробьев простер руку в направлении некоего прямоугольного силуэта, который почти сливался со стеной, и предложил:
– Не хотите ли предупредить?