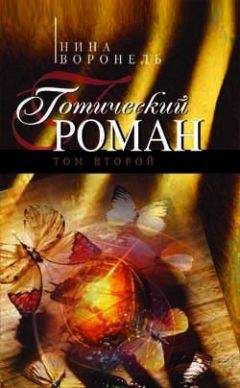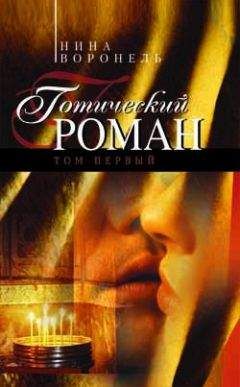Вот то место, на котором кончались скопированные им листки. Начиная со знакомого абзаца, читать стало гораздо легче.
«Рихард резко захлопнул тщательно переплетенный Козимой том. Никто никогда не узнает, какой болью наполнилось его сердце при виде Мишеля, которого он был обречен предать. Но было еще не поздно, Мишель еще мог удрать и затеряться в царящей вокруг суматохе. Еще не всюду было оцеплено, не все границы перекрыты. И Рихард не поскупился на красивые слова, пытаясь убедить друга бросить все и скрыться – в конце концов, это была не его страна, не его революция. Но не такой это был человек, чтобы искать спасения в бегстве. За то и любил его Рихард, за то и любил.
Тогда Рихард обратился к Хюбнеру – не как к главе временного правительства, а как к единственному человеку, способному повлиять на Мишеля. Глядя в его лихорадочно горящие глаза, в которых отчаянная решимость пересиливала страх, Рихард видел, как трудно Хюбнеру сосредоточиться. Но тот все же взял себя в руки и постарался вслушаться в его слова. Осознав, что речь идет о судьбе Мишеля, Хюбнер на миг задумался, а потом, резко повернувшись на каблуках, молча направился по коридору в одну из комнат ратуши. Рихард побежал вслед за ним и успел проскользнуть в дверь, прежде чем она закрылась. В комнате не было никакой мебели, кроме брошенного на пол старого матраса, на котором полулежал Мишель.
Рихард полистал рукопись и нашел страницу, на которой он пересказал разговор Хюбнера с Мишелем. Он передал этот разговор весьма точно, если не считать того, что время и обстоятельства были слегка подтасованы. На прямой вопрос Хюбнера о целях его участия в восстании Мишель кратко пояснил, что у него нет никаких идей о форме нашего правительства и никакой заинтересованности в уличных боях в Дрездене, в частности и в Германии вообще. Единственно, что вдохновляет его принимать участие в нашей исключительно глупой затее, это благородство и храбрость самого Хюбнера, которого предали почти все его бывшие соратники. И теперь, единожды приняв решение посвятить свою дружбу и верность столь самоотверженному человеку, он, Мишель, намерен идти с ним до конца, сколь бы трагичен ни был этот конец.
Слегка задетый восторженным отношением Мишеля к Хюбнеру Рихард понял, что спасти Мишеля невозможно, потому что тот ищет гибели. И словно в подтверждение этой мысли Мишель объявил, что, невзирая на полную безнадежность их положения, Хюбнер не имеет права приказать людям мирно разойтись по домам – как в таком случае оправдать сотни жизней, уже отданных во имя восстания? И Хюбнер подчинился воле Мишеля – он отдал приказ всем войскам временного правительства начать отступление во Фрайберг.
Рихард не стал перечитывать все свои выдумки, описывающие следующий день, когда он нанял коляску с кучером и один отправился во Фрайберг. Он понимал, что какого-нибудь дотошного читателя этих страниц мог бы заинтересовать вопрос, зачем ему понадобилось встать ни свет, ни заря и, опережая других, помчаться во Фрайберг. Однако утешало, что каким бы дотошным ни был этот читатель, он не смог бы проследить путь Рихарда в трактир «Голубой барабан» во Флехе. Но, к сожалению, он сам заметил теперь и другие несовершенные записи, сквозь строки которых ложь проступала более явно.
Пожалуй, хуже всего выглядела сцена встречи Хюбнера и Мишеля с группой гвардейцев из Хемница, которые убедили их, что в Хемнице их ждут многочисленные соратники, готовые присоединиться к восстанию. Рихард наполнил эту сцену множеством избыточных подробностей, которые, не имея прямого отношения к делу, должны были подтвердить правдивость его рассказа.
«Мы своими глазами видели гвардейцев из Хемница, расположившихся на привал на склоне холма недалеко от дороги. Они послали своих представителей выяснить у Хюбнера, как обстоят дела. Получив от нас информацию о том, что революционные войска, отступив из Дрездена, по-прежнему тверды в своем намерении воевать до последней капли крови, они пригласили временное правительство расквартировать свою армию в Хемнице. Сразу после этого они вернулись к своему отряду и на наших глазах тронулись в обратный путь в Хемниц».
Сейчас он увидел, что именно эта сцена может его разоблачить. Она была составлена неловко, явно в расчете на продолжение, которое бросалось в глаза на следующей странице:
«Мой зять-полицейский неохотно рассказал мне, что гвардейцы Хемница никогда не были на стороне восставших и отправились в Дрезден против своей воли с единственной целью – перейти во время боя на сторону пруссаков. Встретив по дороге Хюбнера, отступающего из Дрездена, они уговорили его расквартировать свои войска в Хемнице и заманили в ловушку. Вернувшись к себе, они силой заставили городскую стражу покинуть свои посты у ворот и заняли их места, готовые арестовать временное правительство сразу по его прибытии в Хемниц».
Рихард поморщился – если хотели арестовать сразу, так почему не арестовали, а дали добраться до отеля и лечь спать, как он сам рассказал двумя абзацами раньше? А он-то, он куда глядел, что не заметил этого несоответствия, когда диктовал эти страницы Козиме?
Но ведь это было так давно, двенадцать лет назад. Откуда ему было тогда знать, что Мишель, измученный семилетним одиночным заключением в страшном подземелье петербургской крепости, разразится покаянной «Исповедью», в которой подробно опишет все обстоятельства, предшествовавшие его аресту? Откуда ему было знать, что Мишель черным по белому напишет, что именно он, Вагнер, уговорил их с Хюбнером ехать в Хемниц?»
Этот абзац был заключен в жирный черный круг, а на полях рядом с ним было написано:
«Похоже, я слегка зарапортовался. Вагнер и впрямь не мог ничего знать об «Исповеди» Мишеля. Он ведь не сидел в либеральной тюрьме либеральной республики Германии на исходе либерального ХХ века, и тюремщики не снабжали его лучшими книгами из лучших библиотек. Он, бедняга, скорей всего даже не подозревал, что его возлюбленный Мишель написал эту покаянную «Исповедь» – она тогда хранилась у русского царя и ее никто не собирался публиковать. Так что придется этот абзац переделать, да что-то неохота. Все-таки было бы неплохо иметь разумного собеседника, с которым хоть иногда можно было бы перекинуться парой слов, – мой болван-сосед для этого абсолютно не подходит. Впрочем, для меня неважно, что Вагнер не читал «Исповедь», важно, что я ее читал».
Что-то в этом роде Ян вчера произносил, – о покаянной исповеди Мишеля и о встрече с гвардейцами из Хемница. И о том, что в воспоминаниях Вагнера рассказывается, как гвардейцы уговорили Бакунина ехать в Хемниц, а в исповеди Бакунина написано, что уговорил его Вагнер. Это уже не может быть простым совпадением, это уже улика. Ури припомнил, как Ян, взмахивая рукой в такт словам, шагал вчера взад-вперед по гостиной и декламировал как по писаному – не потому ли, что сам это написал и помнил наизусть?