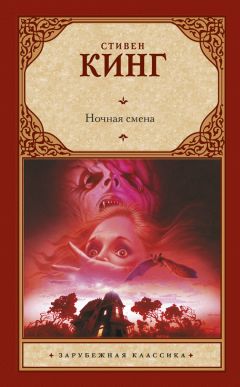– Ты не взглянешь, вместе ли мои ноги?
– Сначала прими таблетки.
Он дает ей пятую капсулу. И шестую. Потом смотрит, вместе ли лежат ее ноги. Вместе.
– Думаю, теперь я посплю, – говорит она.
– Хорошо. А я пойду глотнуть воды.
– Ты всегда был хорошим сыном, Джонни.
Он кладет пузырек в сумочку, оставляет на покрывале рядом с матерью. Сумочка остается открытой, и он репетирует ответ на вопрос, который ему неминуемо зададут: Она попросила дать ей сумочку. Я принес ее и открыл, прежде чем уйти. Она сказала, что сама сможет взять из нее все, что нужно. Она сказала, что попросит медсестру убрать сумочку в гардероб.
Он уходит, пьет воду. Перед зеркалом над фонтаном высовывает язык, смотрит на него.
Когда он возвращается в палату, она спит, руки лежат рядом друг с другом. Он видит набухшие вены. Он целует ее, глазные яблоки перекатываются под веками, но глаза не открываются.
Да.
Ничего особого он не испытывает – ни хорошего, ни плохого. Все как обычно.
Он уже направляется к двери, когда новая мысль приходит ему в голову. Он возвращается к кровати, достает бутылочку, вытирает о рубашку. Затем прижимает бутылочку к расслабленным пальцам левой руки. Убирает в сумочку и уходит быстро, не оглядываясь.
Возвращается домой, ждет телефонного звонка и жалеет, что не поцеловал ее еще раз. В ожидании звонка смотрит телевизор и пьет воду.
[75]
В четверть одиннадцатого, когда Херб Тукландер уже собрался закрывать свое заведение, в «Тукис бар», что находится в северной части Фолмаута, ввалился мужчина в дорогом пальто и с белым как мел лицом. Дело было десятого января, когда народ в большинстве своем только учится жить по правилам, нарушенным в Новый год, а за окном дул сильнейший северо-западный ветер. Шесть дюймов снега намело еще до наступления темноты, и снегопад только усиливался. Дважды Билли Ларриби проехал мимо нас на грейдере, расчищая дорогу, второй раз Туки вынес ему пива, из милосердия, как говаривала моя матушка, и, Господь знает, в свое время этого пива она выпила сколько надо. Билли сказал ему, что чистится только главное шоссе, а боковые улицы до утра закрыты для проезда. Радио в Портленде предсказывает, что толщина снежного покрова увеличится еще на фут, а скорость ветра усилится до сорока миль в час.
В баре мы с Туки сидели вдвоем, слушая завывания ветра да вглядываясь в языки пламени в камине.
– Давай на посошок, Бут, – говорит Туки. – Пора закрываться.
Он налил мне, потом себе, тут открылась дверь, и вошел этот незнакомец, обсыпанный снегом, словно сахарной пудрой. Ветер тут же полез в бар снежным языком.
– Закрывайте дверь! – орет на него Туки. – Или вас воспитывали в сарае?
Никогда я не видел более перепуганного человека. Он напомнил мне лошадь, которая весь день ела крапиву. Он вытаращился на Туки, пробормотал: «Моя жена… моя дочь…» – и повалился на пол.
– Святой Иосиф, – говорит Туки. – Закрой дверь, Бут, ладно?
Я подошел и закрыл дверь, борясь с ледяным ветром. Туки опустился на колено рядом с мужчиной, приподнял голову, похлопал по щекам. Тут я увидел, что выглядит парень паршиво. Лицо уже покраснело, на нем появились серые пятна. А тот, кто пережил в Мэне все зимы с тех самых пор, когда президентом был Вудро Вильсон (это я о себе), знает, что эти серые пятна – верный признак обморожения.
– Отключился, – прокомментировал Туки. – Принеси-ка бренди.
Я взял с полки бутылку, вернулся. Туки расстегнул парню пальто. Тот чуть оклемался: глаза приоткрылись, он что-то забормотал, но очень уж тихо.
– Налей чуток.
– Чуток? – переспрашиваю я.
– Бренди – чистый динамит, – отвечает он. – А ему и так сегодня досталось.
Я плеснул бренди в стопку, посмотрел на Туки. Тот кивнул.
– Лей прямо в горло.
Я вылил. Реакция последовала незамедлительно. Мужчина задрожал всем телом, закашлялся. Лицо покраснело еще больше. Глаза широко раскрылись. Я обеспокоился, но Туки усадил его, как большого ребенка, стукнул по спине.
Мужчина попытался выблевать бренди, Туки стукнул его снова.
– Нельзя. Продукт дорогой.
Мужчина все кашлял, но уже не так натужно. Тут я смог к нему приглядеться. Судя по всему, из большого города, откуда-то к югу от Бостона. Перчатки дорогие, но тонкие, так что на руках наверняка серые пятна, и ему еще повезет, если он не потеряет палец-другой. Пальто дорогое, это точно, триста долларов, никак не меньше. И сапожки, едва доходящие до щиколоток. Я подумал, а не отморозил ли он мизинцы.
– Полегчало, – просипел он.
– Вот и хорошо, – кивнул Туки. – Можете подойти к огню?
– Моя жена и дочь… Они там… Мы попали в буран.
– Да я уж понял, что они не сидят дома перед телевизором, – ответил Туки. – Вы расскажете нам обо всем у камина. Помогай, Бут.
Мужчина со стоном поднялся, рот перекосило от боли. Вновь я подумал, а не отморозил ли он ноги. Оставалось только гадать, что чувствовал Господь, создавая идиотов из Нью-Йорка, которые пытаются пересекать южную часть Мэна наперекор северо-восточным буранам. Оставалось только надеяться, что его жена и маленькая дочь одеты теплее, чем он.
Мы довели его до камина и усадили в кресло-качалку, в которой всегда сидела миссис Туки, пока не преставилась в 1974 году. Именно стараниями миссис Туки этот бар получил известность. О нем писали в «Даун ист», «Санди телеграф» и даже в воскресном приложении «Бостон глоуб». Действительно, «Тукис бар» скорее тянул на таверну, с паркетным полом, баром из клена, тяжелыми потолочными балками, большим каменным камином. После статьи в «Даун ист» миссис Туки хотела дать бару новое название, «Тукис инн» или «Тукис реет», действительно, они лучше соответствовали бы интерьеру, но я предпочитаю старое – «Тукис бар». Одно дело – потакать вкусам туристов, наводняющих летом наш штат, и другое – работать зимой, когда обслуживаешь только соседей. А частенько случалось, что зимние вечера мы, я и Туки, коротали вдвоем, пили виски с содовой или пиво. Моя Виктория умерла в 1973-м, и, кроме как к Туки, пойти мне было некуда: здесь голоса заглушали тиканье часов, отмеряющих мне жизнь, даже два голоса, мой и Туки. Но едва ли я приходил бы сюда, измени Туки название своего заведения на какое-нибудь «Тукис реет». Глупость, конечно, но тем не менее правда.
Мы усадили парня перед огнем, и он задрожал еще сильнее. Обхватил колени руками, зубы стучали, из носа потекло. Я думаю, он начал осознавать, что не выжил бы, проведи на улице еще пятнадцать минут. И убил бы его не снег, а пронизывающий ветер, выдувающий из тела все тепло.
– Где вы сбились с дороги? – спросил его Туки.
– В-в-в ш-ш-шести м-м-милях к-к-к юг-гу от-т-тсюда.