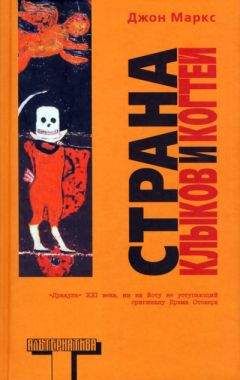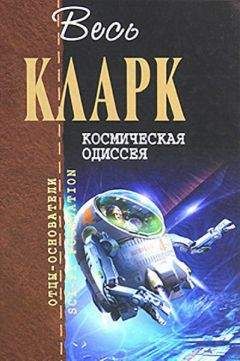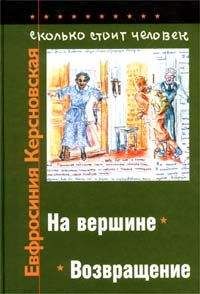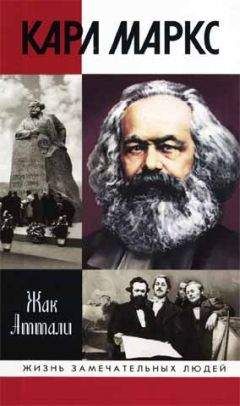Он взял меня за воротник.
— Треблинка, — забормотал он. — Воркута. Гоморра. Это слова бесконечного стиха. Медина. Масада. Балаклава. Познавая меня, познаете мою искренность — дар, переданный мне проклятием отца и не иссякший за столетия горя. Вы узнаете, как не потерплю я неуважения. Вы узнаете во мне заступника попранных мертвецов.
Он видел, что я хочу заговорить, и отнял руку от моего рта.
— Вы думаете, — просипел я, — что этому миру действительно нужен ваш чудовищный урок истории?
— Урок истории, — отозвался он. — Вы и впрямь видите мои намерения.
— Но это ложь.
— Названия не лгут. Они на ложь не способны.
Я нашел в себе силы противостоять ему моими собственными словами, пусть даже они были бессильны спасти меня самого:
— Глубинной памяти рода человеческого не требуются имена. Мы видели звезды до того, как узнали их названия. Мужчины касались женщин, а женщины — мужчин до того, как мы познали хотя бы один слог. Женщины рожали детей со стонами, много старше языка. Имена — как ваше ведро. В них лишь кровь.
Меня вот-вот вспорют как свинью, и близость позорно-жалкой смерти сделала меня дерзким. Я был исключительно доволен собой, неплохая вышла бы лекция, но радость быстро прошла. Боль в спине нахлынула снова. Дыхание Торгу действовало как удушающий газ. Он подчинил меня, выудив мои собственные воспоминания… Во Вьетнаме мы наткнулись на плантацию гевей, и трупы там были повсюду, вьетконговцы и солдаты южновьетнамской армии, трупы гнили там уже несколько дней. Они были как порубленные овощи, которые бросили на поле. Те лица мы не стали снимать. Я попросил операторов оставить их в покое — из уважения, но в моей памяти они сохранились, или же Торгу вызвал их в мой кабинет. Я терял силу. А фантомы в воздухе ее набирались. Торгу начал распевать две вещи разом: из его рта исходили два отдельных и совершенно различных голоса. Одним голосом он произносил названия мест, и я начал видеть эти слова: опаленные огнем они капали, сочились, а в них рождались картины самых разных зверств. Я не мог обороняться против Эстер, против вьетнамцев или того, другого поля в Алжире, против полосы смерти в Берлине. Сколько смертей я видел… Это меня почему-то удивило. Я даже не подозревал… И в то же время Торгу делал мне предложение. Он не перережет мне горло, обещал он. Он вскроет себе запястье, и я выпью его крови. Он желал, чтобы я заключил с ним союз. Глаза Торгу закрылись.
— Прошу в этом твоего благословения.
Схватив застрявший в моей ноге нож, я его вырвал. Торгу счел это отказом и ударил меня своим ножом по голове, чиркнув по уху. Я ударил его здоровой ногой, опрокинул на пол и из последних сил похромал к двери. А Торгу с воем бросился следом.
Я едва не наткнулся на Пич, которая уронила коробку с пиццей и завизжала. Торгу уже схватил меня за пиджак, когда, словно видение из сна, перед нами возникла Эвангелина Харкер. Я почувствовал, как пол уходит у меня из-под ног, услышал невнятные крики, которые вздымались и опадали. Потом — чернота.
Когда я очнулся, я был уже здесь, в своей собственной спальне. В больницу я поехать отказался. Сиделка старалась отобрать у меня бутылку, но я ее выгнал. Теперь надо поспать.
На мгновение я снова его увидела. Лицом к лицу. И он увидел меня.
— Эвангелина, — раздался у меня в голове его шепот.
Его состояние ухудшилось. Тело съежилось, голова раздулась, как клещ, слишком долго провисевший на спине собаки. Лишь несколько секунд, но мир словно остановился, и, заглянув в те глаза, я увидела в глубине их усталость, голод и страх. Ничего подобного раньше не было. Но такого нападения он не вынес. Он пронесся мимо меня, мимо вопящей Пич Карнэхен, и порывом яростного ветра за ним последовала его свита. Залитый собственной кровью, Остин добрался до ковра. Тут во мне проснулись приобретенные в Трансильвании инстинкты. Оторвав полосу от собственной футболки, я жгутом затянула ее на ноге Остина. Где-то далеко в коридорах стихал вой ярости. Я приказала Пич вызвать «скорую помощь». На мгновение, стоя на коленях над Остином, я заглянула в открытую дверь кабинета Эдварда Принца и мельком увидела нечто необъяснимое, тень, метавшуюся между тремя яркими экранами, но дверь захлопнулась до того, как я смогла что-то разглядеть. У меня не было времени на эту тайну. Остин потерял сознание. Торгу скрылся.
23 МАЯ
Сиделка дала мне новый пузырек перкоцета. Я слишком много его принимаю. Надо бы воздержаться. Наступил уикенд. Я ковыляю по квартире на костылях. Снаружи воцарилась зверская жара. Вчера вечером была достигнута рекордная температура. «КонЭд»[18] предупреждает о перегрузках сети и просит сознательных граждан по возможности экономить электроэнергию. Не будь я рационалистом, я сказал бы, что Торгу использует Солнце против нас. Я выходил на улицу за газетой. Больше этого делать не буду.
Господин, глубокий вдох посреди раскаленного воскресенья. Знаю, вы со мной больше не говорите. Знаю, вы желаете мне ужасной участи. Также я знаю, что вы планируете отомстить за мой предполагаемый проступок. Мое раскаяние не имеет границ. Но я отказываюсь бросать вас. Я отказываюсь принимать такой суд, и вот мое первое покаяние. Вам следует знать о том, что произойдет завтра. Все до единого продюсеры и корреспонденты этой программы вернулись со всех уголков земного шара, чтобы отдать дань уважения своему главе, Бобу Роджерсу, основателю программы, который уйдет на покой после более чем трех десятилетий на должности исполнительного директора. Это исторический момент в анналах телевещания. Программы, подобной «Часу», никогда не было, как не было исполнительного директора, подобного Бобу Роджерсу. Но заинтересовать вас должно их число. Редко случается, чтобы все сотрудники программы собрались под одной крышей. Неслыханное дело, случается только в самых серьезных, исключительных случаях. Такой шанс вам больше не представится. Через каких-то сорок восемь часов в вашем распоряжении будет почти сотня тел, одни старые и увядшие, другие — полные соков и сильные. Самых молодых и самых старых сотрудников разделяют пять десятилетий. Только подумайте, полвека! Они как никто другой подходят для того, чтобы донести вашу весть до широких масс американцев. Остальные, разумеется, послужат орудиями.
Программа такова. Соберутся все около десяти. В одиннадцать в просмотровой будет устроен завтрак-фуршет (а фуршеты у нас обычно весьма недурны: копченая лососина и круассаны от «Забара», свежесваренные креветки и молочные поросята под шубой, какой я не встречал нигде больше). Тротта считает себя большим умником, поскольку планирует рассказать о вас на собрании. Он полагает, что наличие большого числа людей повлияет на вашу способность говорить о желаемом. Он намеревается устрашить вас таким маневром. Но я слышал великолепную новость. Он ощутил на себе ваше чудо. Теперь он стал умнее. Со своей стороны я приду на понедельничное собрание и буду делать записи. Вполне возможно, эта информация будет вам полезна. Вполне возможно, вы простите меня, если я приведу на наш праздник сто талантливых, надменных, податливых душ. Удачи.