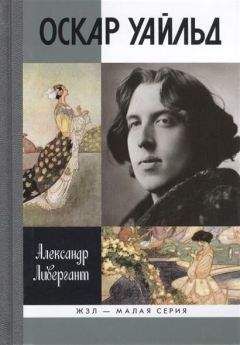Наташа облюбовала себе одну из множества скамеек под высокими акациями и блаженствовала, то разглядывая нарядных прохожих, то наблюдая, как на небольшой площадке неподалеку мальчишки и девчонки, не старше тринадцати лет — красивые, изящные, в танцевальных костюмах — лихо отплясывают латиноамериканский танец. Стремительно мелькали голые ноги и улыбающиеся, захваченные танцем лица, стучали каблуки, и рассыпалась горохом солнечная, экзотическая музыка. Зрелище было чудесным и удивительно ярким, резко контрастируя с тем, что Наташе до сих пор доводилось видеть, и она невольно улыбалась, раздумывая над тем, что ей делать дальше.
Прошло четыре дня. Она снова работала в своем павильоне, но знала, что это уже ненадолго. И не из-за того, что Виктор Николаевич теперь косился на нее с подозрением, ожидая либо нового грабежа, либо новых травм, которые бы в самый неподходящий момент помешали ее работоспособности, — прежняя жизнь теперь казалась ей чужой одеждой, которая уже не по размеру. Следовало понять, какой ее одежда должна быть теперь.
После разговора с Пашей — сложного и достаточно мучительного для обоих, потому что один из них никак не мог понять, почему его бросают, а другой — почему его никак не могут отпустить — она отвезла все свои вещи на старую квартиру — до тех пор, пока не сможет снять где-нибудь комнату. Место для нее было только в комнате Дмитрия Алексеевича, но жить в опустевшем логове деда было жутко и больно. Большой сундук-идол стоял запертым на ключ, и так должно было быть всегда. И теперь, всю жизнь Наташе предстояло, сменив на этом посту деда, охранять старые и зловещие неволинские сокровища.
Картину с заключенной в ней Дорогой Слава забрал во, как он выразился, «временно надежное место». Но это было ненадолго.
После того, как в тот день Слава отвез Наташу домой, к матери, он больше не появлялся, не звонил, и это было больней всего — теперь, кроме матери, он оставался единственным родным человеком — помимо всего человеком, которого она уважала и которому теперь доверяла безраздельно. Но Наташа понимала, что обвинять Славу в этом не только бессмысленно, но даже несправедливо. Он сделал очень много, и она была глубоко благодарна ему. Но теперь… что теперь? — у Славы была своя жизнь, да и после того, что узнал о Наташе и обо всем, что было с ней связано, — более того, непосредственно с этим соприкоснулся — глупо было бы рассчитывать на какие-то дружеские отношения. Наташа была опасна и знала это. А оттого ей было особенно горько.
Сегодня был ее рабочий день, но на праздник отчаянно и жалобно напрашивалась отработать сменщица Таня, дабы осчастливить подарками «зайчика-Колюнчика», и Наташа, для виду поломавшись, уступила с радостью. Даже если бы и не Таня, она бы сегодня все равно ушла. Она должна была оказаться на бульваре. Этот день был обещан, и она не имела права нарушить обещание, пусть даже и того, кому оно было дано, уже нет. И теперь Наташа сидела и думала.
Она понимала, что может сделать многое и может не сделать ничего. Прошлая жизнь временами вспоминалась как странный мучительный сон, и Надя, дед, Лактионов не умерли — они словно просто исчезли, как исчезают все сновидения — исчезли, как только она открыла глаза на этой скамейке, среди музыки и людского говора, среди ранней осени — времени, исполненном удивительной философской мудрости и мягкой печали, времени-границе, когда за спиной беззаботное солнце, а впереди короткие белые холодные дни. И это было символично — сейчас она тоже находилась на границе — нужно делать выбор. Да, она может сделать много хорошего, но может и натворить много бед, как прадед, как дед, как даже Надя, поддавшись очарованию собственной власти над чьими-то жизнями и посчитав себя богом. И, если она будет постоянно погружаться в чужое зло, в чужую грязь, где гарантия, что она не растворится в этом? И время — так мало времени, а жизнь хрупка — не сегодня-завтра она может оборваться или оказаться у кого-нибудь в подчинении, как это уже было с Пашей. Нет гарантий. Гарантий вообще не существует — это какое-то смешное, искусственное понятие, которым прикрывают нечто зыбкое и опасное.
Наташа поежилась, неожиданно почувствовав чей-то пристальный тяжелый взгляд, и чуть повернула голову. На соседней скамейке сидел невысокий полный мужчина и смотрел на нее изучающе, мрачно и слегка встревоженно, словно на опасное животное, хотя, возможно, ей это только казалось — теперь она с подозрением относилась ко всем людям, зная, что может таиться в глубине их душ. Раньше она видела вокруг покупателей, теперь она видела келет.
Поддавшись неожиданному озорному порыву, она по-детски скорчила щуплому рожу, и мужчина, чопорно поджав губы, отвернулся, перенеся свой тяжелый взгляд на танцующих. Ей это показалось очень смешным, хотя легкая тревога осталась — на ярком цветном полотне праздника человек странным образом походил на пусть и маленькое, но уродливое пятно грязи. Ну, что ж, не всем в праздник удается оставить дома плохое настроение или скверную натуру.
— Сидим?
Вздрогнув, она обернулась и улыбнулась удивленно и радостно.
— Привет!
— И тебе привет! Скамейкой поделишься? — не дожидаясь ответа, Слава сел рядом, снял солнечные очки и, закинув руки за голову, с наслаждением потянулся, хрустнув суставами. — Э-эх, хорошо-то как, душевно! Ишь, как выплясывают-то, а?! Пойти, что ли, присоединиться, вспомнить молодость?! Да нет, еще напугаю детей, пожалуй!
— Как ты тут оказался? — спросила Наташа, и Слава, продолжая смотреть на небо, лениво улыбнулся.
— На троллейбусе приехал. Так и знал, что найду тебя здесь. Думаю: сидит она сейчас посреди праздника и решает: что же ей делать дальше, как жить, в какую сторону склониться — ведь она может принести много пользы, но может принести и много вреда.
Он посмотрел на Наташу и, увидев, как изменилось ее лицо, засмеялся.
— Да, подруга, похоже, ты так сильно обожглась на Пашке, что настроилась теперь всех мужиков считать козлами и сволочами, а также абсолютными кретинами. Это неправильно, лапа. Ты и сама это поймешь…позже. Крайностей не бывает, и, как художник, ты знаешь, что истинные цвета — это смешанные цвета. Все проходит… Все пройдет. А ты, я смотрю, покрасилась?
— Да, — Наташа провела рукой по волосам. — Как тебе — ничего?
Слава прищурился с видом знатока.
— Я бы сказал, что этот цвет хорошего темного пива на ярком солнце очень тебе к лицу. Как, а?! Нет, серьезно, Наташ, очень хорошо, и сама ты выглядишь уже получше, — он задумчиво потер щеку, с которой еще не сошли длинные царапины. — Я попрощаться пришел.