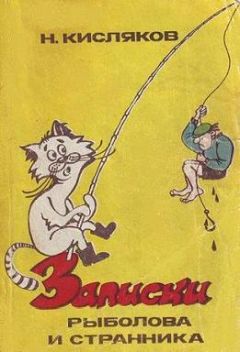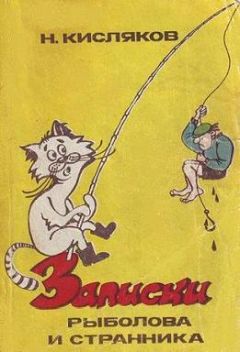Примериваю рюкзак. Он оказывается куда тяжелее, чем ожидалось. Бодрясь, шагаю по комнате. Вид у меня что надо, мужественно-нежный: белые кеды, сиреневые джинсы, рубашка, густо усыпанная цветами ромашки.
Трубно ревя, сынишка мертвой хваткой цепляется за штанину: ему захотелось составить компанию в походе. Я тоже готов пустить слезу.
Дымит и плавится асфальт. Жарюка несусветная. Как раз самое время отправляться в дорогу. У железнодорожного вокзала из автобуса вываливаемся втроем: с одной стороны меня поддерживает, не позволяя упасть, жена, с другой надежно пристроился сынишка: его пока так и не удалось отцепить от штанины.
Отсюда начинается мой железнодорожный путь до Новохоперска.
— Поезд сто тридцать первый (мой!) опаздывает на пять часов, — авторитетным микрофонным голосом сообщает справочная вокзала.
Не беда, спешить некуда: у меня нет горящей путевки, вообще никакой нет, а впереди — месяц отпуска.
Совсем рядом — городской пляж. Идем купаться. Через час мимо пляжа с лихим разбойным посвистом проносится сто тридцать первый. Поминаю тихим добрым словом справочную и очень завидую тому хмурому гражданину, который не поверил справочной и остался стеречь очередь.
Но еще есть сто одиннадцатый. Он тоже, говорят всезнающие железнодорожники, опаздывает на пять часов. Теперь мы и другие поумневшие пассажиры не отходим от кассы ни на шаг. Поскольку пассажир стал бдительнее, сто одиннадцатый не спешит. Но задержаться на целую вечность он не может — через шесть часов выдают билеты.
— Поезд сто одиннадцатый прибудет на третий путь, — вещает справочная.
— Когда?
— Скоро.
Бежим, штурмуя переходный мост, на третий путь. Построившись цепью, вытягиваем шеи: вот-вот из-за поворота вроде бы должен показаться сто одиннадцатый. Проходит час, другой… Стемнело. Пассажиры осваивают третий путь, располагаясь на узлах, чемоданах и портфелях. Среди нас находится один памятливый, который клятвенно заверяет, что ничего подобного за всю свою жизнь не видел. Наперебой ругая справочную и заблудившийся сто одиннадцатый, проникаемся друг к другу самыми теплыми чувствами.
Наша семья притулилась у фонарного столба. Сверху, ослепленным светом «кобры», парашютируют на нас большие черные жуки. Нами мирно, без лишнего шума, питаются комары. Прислонившись к рюкзаку, сладко посапывает сынишка. Тихонько освобождаю штанину. Всем ожиданиям в этом прекраснейшем из миров приходит конец — появляется и сто одиннадцатый.
ГЛАВА II
Коварство второго человека. Огонь, вода и медные трубы. Соперник Роны. Ангел. Под открытым небом.
Эти записи, как сказал бы достопочтенный Джером К. Джером, неизлечимо достоверны, поэтому автор не вправе опускать те детали и факты, которые несколько приземляют его в общем-то мужественную фигуру. Кроме того, он не знает такого человека, который отказал бы себе в удовольствий при первой же мало-мальской возможности рассказать о своих хворях. Нет сомнения, — эти рассказы захватывающе интересны и поучительны, иначе они не были бы столь подробны.
Я здоров настолько, насколько может быть здоров человек, проводящий в каменных городских клетках Почти полные сутки — на работе и дома. Но перед самой поездкой второй сидящий во мне человек стал выкидывать разные некрасивые номера во спасение себя от странствия, где, как он предполагал, ему придется туго. Поначалу этот второй человек стал симулировать общее недомогание. Я не сдавался. Тогда за день до отъезда дал знать о себе зуб мудрости. Болящий зуб, известно, на мелочи не разменивается; именно такой зуб заставляет нас лезть на стену и совершать другие героические поступки. Было ясно, что зуб будет свирепствовать до тех пор, пока его хозяин не откажется от своей устрашающей второго человека затеи.
В стоматологической поликлинике врач, оптимистически настроенный крепыш, поигрывая никелированным оружием пытки, сказал:
— Зуб удалять надо, но сегодня не могу. У меня норма — шестнадцать зубоудалений за рабочий день, и я ее выполнил.
— Нормы перевыполнять надо.
— Мне не платят прогрессивку.
— Вы рутинер. Мне больно.
— Все рутинеры, всем больно. Заходите как-нибудь на той неделе.
Выхожу на улицу — и белый свет не мил. Готов использовать старинный, но верный способ: один конец суровой нитки привязывается к зубу, второй — к дверной ручке. Какой-нибудь доброхот дергает за дверь, и зуб вылетает, как миленький.
Навстречу шустро шагает мой старый приятель Вася Деревянкин. Вася может все. Ему было бы скучно жить на свете, если бы не нужно было что-то доставать, устраивать, проталкивать.
Выслушав мой нервный рассказ, Вася хмыкнул и снисходительно сказал:
— Плевое дело, дружище. Есть на примете один фраер — на все руки мастер.
Через час, лишившись зуба мудрости и червонца впридачу, я стал одним из самых счастливых людей на земле. Но ненадолго. Коварный второй человек не дремал и немедленно подкинул другую пакость.
С первых же шагов, направленных к Хопру (еще дома, в квартире) моя скромная сухая мозоль на маленьком пальце левой ноги прямо-таки взвыла болью тяжкого оскорбления. Только поразительная красота и очарование Хопра заставляли как-то забывать о треклятой мозоли, но и тогда я краем уха слышал, как ворчала и стонала мозоль — иногда даже во сне. Дабы уничтожить ее, я испытал в дороге тысячу способов: пользовал мозоль луком, горчицей, перцем, конским навозом, гремучей ртутью — и все напрасно. Но стоило возвратиться домой, как мозоль моментально исчезла сама собой, разумеется, с гордым сознанием исполненного долга. Мой христианский совет владельцам мозоли: не отправляйтесь в путь, не изведя ее любыми способами. Пилите мозоль напильником, жгите каленым железом, рубите топором, действуйте, как хотите, но уничтожьте ее под корень.
Уже в пути второй недобрый человек сделал отчаянную попытку испытать меня еще раз — и совсем некстати.
По утрам пассажиры всех поездов МПС имеют похвальную привычку умываться. Поскольку в вагоне работает, как правило, один туалет из двух (это одна из неразгаданных пока тайн железнодорожного транспорта), то возле него образуется стойкая очередь. В это утро самые терпеливые пассажиры одного из вагонов сто одиннадцатого напрасно топтались возле заветной двери: туалет был занят на неопределенное время. Говорили даже, что занят с вечера, но слухи всегда страдают некоторым преувеличением.
Как водится, возникали разговоры — взволнованно-нудные, банальные:
— Не у себя дома!
— Ни стыда, ни совести!
— Шнурок проглотил, холера?
— Нечего с ним цацкаться, ломай дверь!
Выдаю время от времени туманные обещания и стойко держу осаду. Впрочем, в моем положении ничего другого не остается.
Сто одиннадцатый, приветственно свистя, подходит к Новохоперску, когда пулей вылетаю из туалета и, сминая очередь, бросаюсь к рюкзаку. Пассажиры энергично и дружно помогают мне покинуть вагон. Вылетаю с некоторым ускорением.
Разгорячившееся солнышко живо напоминает о том, что в вагоне осталась кепка, но возвращаться не хочется. Пусть эта видавшая виды рыбацкая кепка останется на память рассерженным пассажирам. Кроме того, снова возникшее сильное желание неудержимо влечет на поиски того скромного пристанционного строения, на двери которого рисуют обычно стройного джентльмена…
Час спустя, местный автобус мчал сиреневые джинсы и ромашковую рубашку в город. Кепку превосходно заменил носовой платок, завязанный по углам на узелки.
Новохоперск стоит на правом высоком берегу Хопра, хорошо видный издалека за десятки километров. Город не очень-то попахивает древней стариной: ему всего навсего два с половиной века. Это бывшая Новохоперская крепость, заложенная по велению Петра Первого вблизи Пристанского казачьего городка, который одно время был центром Булавинского восстания. Здесь формировалась повстанческая армия для похода на Черкасск, отсюда рассылались во все концы «прелестные грамоты» — листовки. На одном из кругов, происходивших в городке, когда решили идти на Черкасск, Булавин выхватил из ножен шашку и сказал: «Если намерения своего не исполню, то отрубите саблею голову».
В то смутное время просвещенный, но и жестокий царь писал главе карательной экспедиции Василию Долгорукому: «Самому же ходить по тем: городкам и деревням — из которых главный Пристанской город на Хопре, которые пристают к воровству и оные жечь без остатку, а людей рубить, заводчиков на колеса и колья».
Пристанской городок был сожжен дотла. Так не стало оплота казачьей бедноты, пристанища беглых крепостных крестьян. Ведь всяк, кто переночевал в городке только одну ночь, считался казаком. Здесь, как и повсюду на Донщине, твердо держались обычая: с Дону выдачи нет.