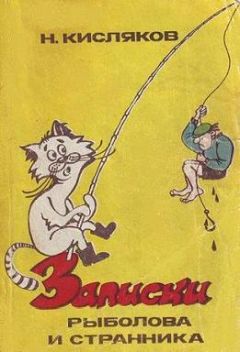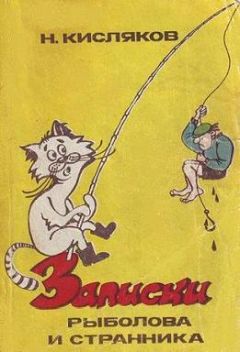В институте ко мне специально прикрепили преподавателя, который имел определенный стаж работы с трудновоспитуемыми. Это был самый безвредный из всех встречавшихся мне руководителей. Нет, он не годился для этой ответственной роли, ибо не помню, чтобы когда-нибудь услышал от него проповедь, мораль или прописную истину. Будучи биологом, он рассказал мне множество любопытных историй из жизни животных — и только.
Позже разного рода и ранга руководители всегда находили упущения и изъяны в моей работе. За всю мою жизнь я выслушал и вычитал тьму нравоучений, советов, пожеланий, распоряжений относительно того, как надлежит жить, работать, мыслить, чувствовать. Просто страшно подумать, в какой бездне может очутиться человек, не получивший причитающуюся ему порцию морали.
Да, теперь я назубок знаю, что такое хорошо и что такое плохо. Однако природная что ли испорченность натуры или пробелы в воспитании временами сказываются. Иной раз сидящий в тебе бес настырно толкает не делать то, что противно твоей натуре. Но это вспышки, порывы… потом приходит безропотное смирение. Нет, не для таких писаны прекрасные слова Романа Роллана: «Величайшее оскорбление для человека независимого — когда его присоединяют к чему-либо помимо желания».
Дома Анна Осиповна пользует несчастные мои ноги особой мазью, после которой «как рукой все сымает», укладывает в постель и присаживается рядом. Забегает проведать вчерашнего клиента Орла Андрей Павлович, с ходу сыплет очередью вопросов:
— Живой? Понравилось у нас? Хочешь, женим тебя здесь? Казачки наши — огонь. Вот только свирепствуют без всякой меры, мордуют нашего брата — мужика. До прямого рукоприкладства доходят, бьют чем попало и почем зря.
По его рассказам, в которых столько искреннего чувства, что им нельзя не верить, положение в Зотовской сложилось крайне ненормальное: женщины взяли над мужиками полную и безоговорочную власть. Иная вконец распоясавшаяся красавица так отчитывает своего благоверного, полномочного, как хорошо известно, представителя господа-Бога на земле:
— Какой ты в чертях глава семьи? Денег зарабатываю не меньше твоего, по дому всю работу делаю, а тебе только и делов, что водку жрать.
От такого унижения, от такой обиды, как не запьешь? Ну, глотнет человек с горя, хоть на ракушках, да домой приползет в расстроенных, заметьте, чувствах. Тут бы его пожалеть, приголубить, всю женскую обаятельность показать. Куда там!
Рассказывают, то ли в Зотовской, то ли в какой другой станице одна жестокая жинка кинула мертвецки пьяного человека на лавку, связала его, сердешного, бельевой веревкой, взяла топор и, ссылаясь на якобы кончившееся у нее терпение, заявила, что сей же час напрочь отрубит злодею голову. Бедняга, икая от страха, ужом извился на лавке, каялся, клятвы разные выдавал, но не смог тронуть вконец очерствевшего сердца родной жинки. Та накинула ему платок на голову, как это делали раньше с приговоренными к смерти, и вдарила по хмельной голове. Не топором, а валенком. Несчастный чуть не окачурился с перепугу, еле отходили. Но и после этого закладывать за воротник он не бросил, не мог бросить, потому как ясно сознавал, что жизнь его все равно пропащая.
— И стали наши казаки не дай и не приведи: окружность его, а середина жинкина, — вздыхает Андрей Павлович.
Мнение Анны Осиповны несколько иного рода:
— Казаки на войне храбрые, а спать да водку хлестать — еще храбрей.
ГЛАВА VIII
Добрый совет. Боги. Как пугают детей. Федосеевская транзитом. Насилие.
Хорошо под материнским крылом Анны Осиповны, однако на другой день уже никакие силы не могли удержать меня на месте. Бродяга он и есть бродяга.
Провожая меня, лесничий смерил критическим оком малопривлекательную фигуру «крестника» и дал добрый совет:
— Знаешь, плохо твое дело, Петрович, ежели тебя даже зотовская баба испугалась. Возьми мою бритву, да хоть побрейся, а то ить в другом месте, глядишь, и ночевать не пустят.
Не могу. А борода… что ж, борода доверие вызывает.
— Какая там борода! Посмотри на себя в зеркало.
Да, за эти дни обзавелся я не бородой, а чем-то поганым, мерзким до отвращения: на лице кустиками, островками, закосами гнездится разноцветная поросячья щетина. Нос облупился и цвет приобрел весьма подозрительный. Носовой платок, заменяющий позабытую в вагоне кепку, выгорел и очень уже смахивает на кухонную тряпку. Некогда сиреневые джинсы позеленели то ли от травы, то ли от злости за столь неуместное употребление. В них бы не через лесную чащобу продираться, а щеголять юному джентльмену по городской улице, рекламировать изящную свою фигуру, перетянутую чудесным бархатным поясом. Ромашковая рубаха, и в первозданном виде вызывавшая нездоровый интерес окружающих, приобрела немыслимые грязно-серые разводы и пятна. Все это, за исключением бороды, в порядке вещей. Жена всегда говорила, что я умею находить грязь даже там, где ее нет. Поэтому новую одежду мне разрешается носить только вприглядку.
К околице плетусь по пустынной станичной улице. Будто попрятался народ. Так оно и есть: приглядевшись, замечаю людей, притаившихся за заборами, любопытные лица в окошках. Так встречали и провожали когда-то царей и важных преступников.
За станицей разморенно трясется навстречу подвода. Когда подвода равняется со мной, с наивозможной вежливостью спрашиваю женщину-возницу:
— Это дорога на хутор Плёс?
— Чего?
Женщина всмотрелась в меня и, стегая лошадей, крикнула:
— Вон там за поворотом мужики, они скажут.
Никого за поворотом дороги не было.
Полем пробираюсь к реке, спешу под манящую тень зеленеющего невдалеке леса. В лесу, возле самой реки, натыкаюсь на пару палаток, «Жигули» и две семейные пары. Молодые бронзово-медные мужчины и женщины красивы, как боги. Правда, боги, насколько мне помнится, никогда не отличались, как эти, весельем, добротой, жизнерадостностью и никогда не были абсолютно счастливы, обремененные хлопотливыми заботами о неспокойном роде человеческом. Встреченные мною боги прибыли сюда за сотни километров — из Новошахтинска, и живут у реки в свое удовольствие третью неделю.
В кастрюле дымится паром уха, запах ее уловил прежде, чем обнаружил стоянку богов. Подойдя к кастрюле и пустив в ход испытанный прием, немедленно получаю свою законную порцию ухи.
Один из богов, зовут его Митей, интересуется, не играю ли я в шахматы. Чешу затылок. Врать богу неловко, но ведь, между нами говоря, я дал себе зарок: на Хопре не прикасаться к шахматным фигурам. В противном случае путешествие грозило бы затянуться на неопределенное время. А, будь что будет! Одну только партию…
У самой воды раскладываем на песчаном пляже шахматную доску. На мою и свою беду Митя оказался не менее азартным, чем его партнер. Как и все шахматисты на свете, он был уверен, что проигрывает случайно. Время летело. Златокудрая Митина богиня, оставленная в одиночестве, описывает вокруг двух согбенных фигур все более сужающиеся круги. Богиня нервничает. Бросаюсь в воду, чтобы освежить мозги. Вынырнув, обнаруживаю, что Митя исчез. Конечно же, богиня унесла его в небесную синь, подальше от соблазна.
Ниже Зотовской лес на правобережье редеет, перемежается степью. Убежав от прискучивших ему меловых гор, Хопер выписывает на равнинном просторе замысловатые петли. Здесь он настолько силен, что может, играючись, кинуть затон влево, затем вправо, образовать остров — как каждая уважающая себя степная река.
Срезая речную петлю, иду по луговине. Громко шелестят под ногами высокие вызревшие травы, над головой — ясное, светлое небо. Воздух чист, ароматен, легок. Везде такая тишина, такая успокоенность, что гудение сопровождающего меня жука подобно гулу тяжелого самолета. Такое гудение не раздражает, ибо человека будоражит, наверно, не столько сам шум, как его ненужность, бессмысленность.
Оставшись с глазу на глаз с природой, снова веду себя не совсем благоразумно и даже предосудительно: валяюсь в траве, жую жестковатые стебли пырея, ору песни. Серьезный человек уже подумал бы о ночлеге.
Миную хутор Фроловский, впереди — станица Федосеевская. В каком-то заброшенном, полуодичавшем саду лакомлюсь грушами. Как же хороша жизнь, как тревожно и радостно жить так, будто живешь ты последний день!
В Федосеевскую вступаю скромно, буднично, но привлекаю поголовное внимание жителей. На безобидного бродягу как-то странно смотрят старухи, дежурящие на лавочках, молодайки и дети. В одном дворе закапризничал малыш. Обостренном слухом улавливаю, как мать пророчит ребенку:
— Не будешь слушаться, станешь таким, как этот дядя.
Мои просьбы о ночлеге не вызывают отклика даже у сердобольных старушек. Все поголовно, словно сговорились, советуют пройти дальше, решительно уклоняясь при этом от светских разговоров о завтрашней погоде. Перспектива ночевать под забором становится реальной.