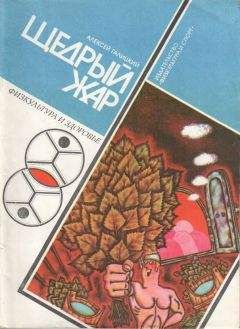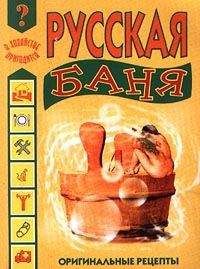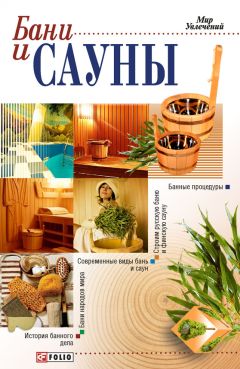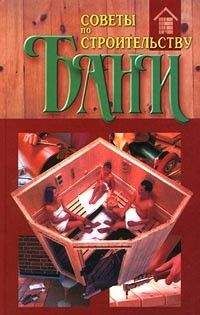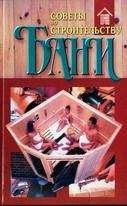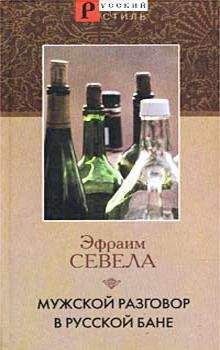Глаза яснее видят
Афанасий Коптелов, старейший сибирский писатель, в романе «Великое кочевье» одним из первых в советской литературе запечатлел приобщение алтайцев — маленького, отсталого и вымирающего народа — к новой жизни, к культуре. Сейчас это покажется невероятным, но в старое время алтайцы никогда не мылись, не знали, что такое баня. Приобщение к простейшим правилам гигиены было здесь отнюдь не простым делом — побороть вековое суеверие, дремучие предрассудки.
Вот фрагменты из «Великого кочевья».
«…Сейчас Борлай начнет полоскаться. Он скорее других забыл седую, как столетия, заповедь “Не умывайся, и счастье будет жить в твоем аиле”.»
…Русская женщина Макрида Ивановна стала одним из организаторов «Дома алтайки». Здесь постигали азы грамоты, несложную мудрость шитья, привыкали соблюдать личную гигиену. Вот пришла юная Яманай.
«— У меня как раз банька поспела, — встретила ее Макрида Ивановна. Она достала чистое белье новое платье и душистое мыло. В предбаннике Макрида Ивановна потрясла перед Яманай ковшом и сказала:
— Ковш. Ну, говори смелее ко-овш».
Макрида Ивановна попыталась помочь девушке раздеться, но та стыдливо запахнулась: с малых лет говорили ей что тело честной женщины никто не должен видеть, кроме мужа.
«— Что ты, милочка моя, надо раздеться! — приговаривала Макрида Ивановна, тихонько разжимая ее руки. — Помоемся. Будешь ты у меня беленькая да свеженькая, как огурчик.
Яманай покорно опустила плечи, готовая на все, но, когда Макрида Ивановна предложила ей снять штаны из тонкой косульей кожи, она закричала, схватившись за голову: “Худо будет!”»
Но все же Макриде Ивановне удалось уговорить девушку раздеться. «Уронив голову на грудь, Яманай нащупывала завязки. Оставшись голой, она прижала руки к животу и повернулась лицом в угол. Макрида Ивановна посмотрела на одежду алтайки и вскрикнула:
— Ой, батюшки, страсть сколько их! Да как же они тебя, миленькая, не заели? Придется всё спалить в печке…»
Приходили новые женщины из кочевий. Макрида Ивановна спрашивала:
— Кто сегодня в баньку собирается? Какая бабочка хочет чистой ходить? С мылом мойтесь, хорошенько. Мыльце серо, да моет бело.
Фрагменты из романа Георгия Маркова «Сибирь». Акимов вместе со стариком Федотом Федотовичем парятся в деревенской бане. «Едва Акимов разделся, тело его обложило влажное тепло. Выступил пот, с кожи ровно начал сползать, как изношенная рубаха, верхний слой…»
Далее рассказывается, как Федот Федотович окатил себя водой из бадейки, потом большим ковшом зачерпнул в кадке воду и плеснул ее на каменку. «Вода с шипением в тот же миг превратилась в белое облако, которое с яростью ударилось в потолок и расползлось по всей бане».
Мы узнаем, как Акимова обдало банным жаром — он даже втянул голову в плечи, сжался. Старый же сибиряк Федот Федотович надел шапку и рукавицы, которые оберегали его от банного жара, взял из маленькой кадки распаренный березовый веник и полез на полок. «Покрякивая, он хлестал себя по телу нещадно.»
И в заключение такая сценка. Федот Федотович соскочил с банного полка, сдернул шапку и рукавицы, распахнул двери и бросился в сугроб «Барахтаясь в снегу, он только слегка покряхтывал, потом заскочил в баню, плеснул ковш в каменку и вновь оказался на полках. Теперь старик хлестал себя бережнее и реже, чем прежде…
— Хорошо! Ой как хорошо! Всю хворь повыгнал! — восклицал Федот Федотович».
Достоверно описал ритуал нашей бани Борис Бедный в рассказе «Хозяин».
Старый токарь Семен Григорьевич собирается в баню. Жена относится к этому скептически.
«— И охота тебе каждый выходной в баню переться? — запротестовала Екатерина Захаровна. — Есть, кажется, ванна: напусти воды и мойся хоть каждый день!
— Напусти сама и мойся, — беззлобно посоветовал Семен Григорьевич, давно уже привыкший к подобным разговорам. — Тесно в твоей ванне, как в мышеловке, а настоящее мытье простора требует, чтобы веником было где похлопать, попотеть всласть. В ванне только детей купать, а взрослому человеку баня необходима, там он душой добреет…»
Жена дает мужу белье, кошелку, «из которой таинственно высовывается кончик березового веника». И вот Семен Григорьевич в бане. Он строго придерживается выработанного годами «регламента русской бани». Раздевшись еще до мытья парится «насухую».
Пока веник парился в шайке с кипятком, Семен Григорьевич сидел на скамье, потел и покряхтывал от удовольствия, растирая заросшую седым волосом грудь.
«Пар был такой резкий, что все входящие в парную сразу пригибались к полу, словно кланялись Семену Григорьевичу, торжественно восседавшему на самом верху полка.
— Явился банный король! — крикнул мастер Зыков, старый дружок Семена Григорьевича, перебираясь со своей шайкой поближе к двери».
Далее рассказывается, как приплясывая Семен Григорьевич стегал себя огненным веником по бокам, спине, животу — «словно был своим заклятым врагом». От наслаждения старый рабочий ухал, даже стонал слегка. Под конец в парной вместе с Семеном Григорьевичем остался только один парень, который не хотел признать себя побежденным. А старого токаря обуял спортивный азарт, и он все больше и больше поддавал пару.
«— Ну и чертов старик! — сказал парень, перехватив сочувствующий взгляд Семена Григорьевича, и, пошатываясь, вышел из парной…»
В гордом одиночестве старый мастер долго еще «добрел душой». До тех пор, когда уже совсем истрепался многострадальный веник, и все тело горело как ошпаренное. Семен Григорьевич вышел из парной весь красный, всклокоченный, торжествующий. Целых десять минут валил от него пар — так много вобрал он в себя тепла.
Потом старый рабочий, отыскав в углу скамейку поукромнее, улегся и пролежал на ней полчаса. «Свободно дышала вся кожа, ощущение было такое, будто он заново народился». Затем Семен Григорьевич мылся с мылом, терся мочалкой и напоследок еще раз зашел в парную, чтобы чистым потом прошибло.
И вот он идет по улице, помахивая кошелкой.
«Подобревшая после бани душа Семена Григорьевича особенно остро, в каком-то радостном и немного детском свете первооткрытия воспринимала все, что происходило вокруг. Вот он поравнялся с ротой солдат в новых шапках-ушанках и добрых четверть часа шел с рядом с солдатами, машинально шагал в ногу, стараясь не отставать от рослого старшины, замыкавшего строй».
В «Плотницких рассказах» Василия Белова (автор ведет их от первого лица) поистине благоговейное о ношение к русской бане.
Герой рассказа приезжает в родное село. При старом отчем доме сохранилась «полувековая, насквозь прокопченная баня».
«Я готов топить эту баню чуть ли не каждый день. Я дома, у себя на родине; и теперь мне кажется, что только здесь такие светлые речки, такие прозрачные бывают озера… И сейчас так странно, радостно быть обладателем русской бани и молодой проруби на такой чистой, занесенной снегами речке…»
В юные годы герой рассказа уехал в город учить на плотника. Ощутил «блага городских удобств». Тогда он ликовал: наконец-то навек распрощался с этими дымными банями. И вот теперь снова в родном доме. «Почему же теперь мне так хорошо, здесь, на родине? Почему я чуть ли не через день топлю свою баню?»
Вместе со старым деревенским плотником Олешей герой рассказа весь свой отпуск подновляет старую баню. «Назавтра мне надо было уезжать. Мы с Олешей топили на дорогу баню. Он привез на санках еловых дров, пучок березовой лучины, а я взял у него ведро и наносил полные шайки речной воды.
— Истопишь? — Олеша прищурился.
— Истоплю — оближешь пальчики…
Сначала я начисто мокрым веником подмел в бане. Открыл трубу, положил полено и поджег лучину. Она занялась весело и бесшумно, дрова были сухие и взялись дружно».
«В бане уже стоял горьковатый зной. Каменка полыхала могучим жаром. Угли золотились, краснели, потухая и оконный косяк слезился вытопленной смолой. Сколько я ни помнил, косяк всегда, еще двадцать лет назад, слезился, когда жар в бане опускался до пола. Угли медленно потухали. Я закрыл дверцу, сходил домой, взял транзистор и под полой принес его в баню… Где-то около этого времени должны передавать песни Шуберта из цикла “Прекрасная мельничиха”. Я хотел устроить Олеше сюрприз на прощание. Поставил приемник в уголок под лавочку и замаскировал старым веником. Закрыл трубу. Угли, подернутые пепельной сединой, еще слабо мерцали».
«Вероятно, — продолжает Василий Белов, — нет ничего лучше в мире прохладного предбанника, где пахнет каленой сосной и горьковатым застенным зноем. Летним, зеленым, еще не распаренным, сухим, но таящим запахи июня березовым веником. Землей, оттаявшей под полом каменки. Какой то родимой древностью. Тающим снежным холодом…»