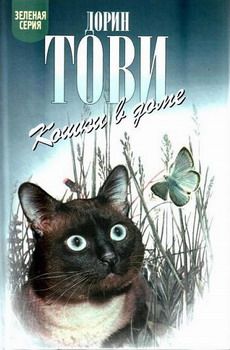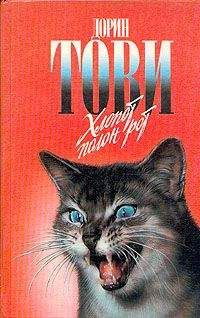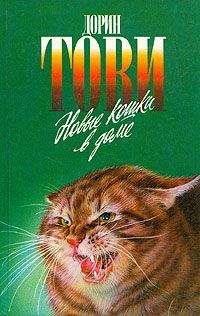Страдай мы только по ночам, еще можно было бы терпеть, но днем было еще хуже. Тишина действовала на нас угнетающе. Уже четыре года мы жили под нескончаемый аккомпанемент кошачьего шума. Кошки вопили, чтобы их выпустили. Кошки оповещали нас, что вернулись. Кошки вопили, потому что заперли себя в шкафу, или — если до нас доносился с неестественной высоты голос Соломона, полный муки, — это значило, что он вновь пытался осуществить свое честолюбивое желание выбраться наружу через фрамугу и, вспрыгнув туда, по обыкновению, струсил ине решался спрыгнуть вниз.
Даже когда наступал вечер и мы располагались отдохнуть — я и Чарльз с книгами, а Соломон грезя о дроздах на каминном коврике, — даже тогда Шеба обычно болтала. Сообщала нам, что видит за окном, садилась в угольный совок, угрожая воспользоваться им, если мы сейчас же ее не выпустим, или, если ничего не выходило, усаживалась, выпрямившись, перед Чарльзом и с надеждой выпевала ему негромкую монотонную серенаду и всякий раз, когда он обращал на нее внимание, испускала громкое влюбленное «вау!».
Все это плюс звуки веселой драки за грелку перед отходом ко сну и общий для всех сиамских кошек звук отбойных молотков, когда они оставались наверху одни, вдруг прекратилось с появлением Самсона, и воцарившаяся тишина веяла жутью. Особенно потому, что, как ни странно, впечатления, что дом остался без кошек, отнюдь не возникало — наоборот, нарастало, ощущение, что дом просто ими кишит.
Только увижу, как Соломон скорбно сопит на кухне в поисках крошек (он их всегда подъедал, но теперь можно было со вкусом сделать вид, что с тех пор, как мы взяли Самсона, у него нет иного выхода: либо крошки, либо голодная смерть!), как уже обхожу его на лестнице. Только он проводит меня печальным взглядом, говорящим, что он вряд ли протянет долго, но надеется, что я его не забуду, когда он уйдет в мир иной, как уже обнаруживаю его под кроватью. И только я встану после тщетной попытки выманить его оттуда (тут он смотрел на меня взглядом, говорившим, что силы его иссякли и он будет сидеть Здесь, пока не Умрет), как он уже снова на кухне, и Чарльз кричит с нижней ступеньки лестницы, а кормила ли я Соломона завтраком — он только что украл всю ветчину.
То же происходило и с Шебой. Она носилась по дому с невероятной быстротой — одновременно хмурилась на Соломона из-за часов и с оконного карниза, выглядывала из-за стульев и свирепо сверкала глазами (или так казалось?) со всех шести полок книжного шкафа сразу. Впечатление было такое, что ее в доме не меньше двух десятков.
Ну, а Самсон... очевидно, у него были роликовые коньки. Сейчас он лазит по занавескам в прихожей, а секунду спустя превращается в бугорок, который таинственно путешествует под покрывалом только что застеленной постели. Сейчас он трудолюбиво уписывает свою овсянку на половичке в кухне, чтобы вырасти большим, сильным котом и дать чертей Соломону, а секунду спустя... у меня чуть сердце не оборвалось — открываю холодильник, а он там. Ради Того Же Самого, сообщил он, радостно поднимая глаза от куриной ноги, и добавил: если так пойдет и дальше, он скоро одной лапой поборет старого Жирнягу. Если так пойдет и дальше, возразила я, мгновенно извлекая его наружу (теперь, естественно, к моим мелким обязанностям прибавилась еще одна: обыскивать холодильник, нет ли там Самсона, а уж потом закрывать дверцу), мы вскоре получим на десерт мороженое из котенка.
К несчастью, таким Самсон бывал, только когда мы оставались одни. Например, рано утром, когда Соломон и Шеба (видимо воображавшие, что ночью мы держим его в саду), едва проснувшись, выскакивали за дверь, проверить, не исчез ли он. Тогда Самсон снова становился таким, каким мы видели его в первый раз. Метался зигзагами по полу точно шмель (у всех сиамских кошек есть свои причуды, он избрал себе такую). Карабкался по внутренней стороне занавесок — несомненно, еще одна причуда, но гладильную доску за ними мы не прятали, и прежнего эффекта не получалось. Алчно забирался на стол, едва мы садились завтракать, а когда его снимали, исчезал на секунду-другую, а затем залезал туда с другого стула. Когда же, признав свое поражение, мы закрывали крышками молочник и масленку, оборонительно нагибались над нашими тарелками и позволяли ему бесчинствовать, Самсон даже затевал разговор.
Это, говорил он своим пронзительным заячьим голоском, проскальзывая у меня под локтем, чтобы добраться до грудинки, или ловко минуя заграждения Чарльза, чтобы лизнуть его яичницу, это очень весело. Если бы он мог избавиться от кошмаров о большом коте, который ходит так странно, и голубой кошке с косыми глазами, он был бы совсем-совсем счастлив. Тут его осеняла мысль. Они же правда просто кошмары? И он внезапно садился на стол, глядя на нас круглыми голубыми глазами. У нас же здесь на самом деле нет таких кошек, правда? А если есть, так мы их отправим восвояси, раз теперь у нас есть он, да?
Отвечать нужды не было. К этому моменту Соломон и Шеба, прочесав сад, как пара ищеек, и нигде его не обнаружив, тоже чувствовали, как их осеняет мысль. И уже сидели на подоконнике, свирепо щуря на него глаза. С дьявольским выражением на мордах, которые, казалось, вот-вот начнут дымиться, они смотрели, как он ест Их печенку и облизывает Их тарелки. Самсону, когда он задавал свой вопрос, достаточно было просто проследить мой взгляд до окна и выяснить, существуют они в кошмарах или наяву. Быстро взглянув на них, Самсон с краткой, но выразительной молитвой своему ангелу-хранителю немедленно исчезал.
Нам, конечно, уже тогда следовало бы понять, что это безнадежная затея, но мы упорствовали. Порой безмолвие войны в джунглях вокруг нас прерывалось тоненькими визгливыми тремоло, означавшими, что они загнали Самсона в угол, так не можем ли мы, пожалуйста-пожалуйста, побыстрее прийти к нему на помощь, не то они его загипнотизируют! А иногда раздавался громкий негодующий вопль, означавший, что Соломон с таким рвением заходил Самсону с фланга, что по ошибке сам оказывался в углу, и теперь Самсон глядел на него. Если слышалось шипение, значит, там была Шеба. Хотя шипеть она могла вовсе не на Самсона, а на Соломона под столом.
Шеба в эти дни пребывала в таком бешенстве, что ей было все равно, на кого шипеть. Она шипела на нас, она шипела на Сидни, она шипела на молочника. Однако больше всего (если не считать Самсона) она шипела на Соломона. Решила ли она, что он и Самсон родственники, раз так похожи, мы не выяснили, но Соломон бродил унылой тенью, дважды уходил из дома, и мы силком возвращали его из леса.
Самсон также дважды уходил из дома. В первый раз мы нашли его на яблоне — Соломон сидел на несколько футов ниже, а Шеба у ствола сердито ворчала и грозила спилить яблоню — уж тогда-то они у нее узнают! Второй раз, хватившись Самсона, я увидела, что Шеба крадется к калитке по дороге, выгнув спину, и кинулась за ним, но на полдороге встречный мальчишка сообщил мне, что застрелил его. Тот самый мальчишка в ковбойской шляпе, на этот раз вооруженный рогаткой. Последнее время меня не оставляло ощущение, что стоит у нас стрястись беде, как он сразу же оказывается рядом. Я на бегу заверила его, что в таком случае вернусь и пристрелю его самого. И его деда, кем бы он ни был, проорала я, когда плаксивый голос у меня за спиной крикнул, что он тогда дедушке пожалуется.
В тот день я не уловила, о каком дедушке шла речь. Самсон, застреленный, к счастью, только в плодовитом воображении Грозы Прерий, был еще жив. Он почти выбрался на шоссе — мех дыбом, словно подстриженный ежиком, чтобы пугать волков, а темный хвостишко поднят как флаг — для храбрости. Полный решимости, сказал он (дрожа как осиновый лист, когда я его подобрала, и отчаянно вырываясь), ни за что не возвращаться.
Если бы не Чарльз, Шеба получила бы хорошую трепку, когда я пришла домой. Было яснее ясного, что она сознательно прогнала Самсона. И пришла в бешенство, когда снова его увидела. Она зашипела так яростно при виде нас, что чуть не выломала все свои зубы.
Пора этой кошке, объявила я, заперев Самсона для верности в прихожей, понять раз и навсегда свое место тут. А Чарльз сказал, что она не нарочно. И Чарльз, хотя всю последнюю неделю она только и делала, что шипела на него, нежно взял ее на руки и сказал, что она его маленькая подружка. И, боюсь, было только справедливо, что в разыгравшейся несколько секунд спустя битве больше всех досталось Чарльзу.
Соломон все это время сидел во дворе и ел кожицу грудинки, которую я бросила птицам. (При обычных обстоятельствах он до нее и когтем не дотронулся бы, но она подвернулась очень кстати, когда его Заморили Голодом, а к тому же застряла в щели между булыжниками, и он устроил душераздирающий спектакль, жалостно выцарапывая ее темной лапой.) Но теперь внезапно вошел в комнату. Он обладал особым даром появляться в не слишком удачные моменты, а неудачнее этого и придумать было нельзя.