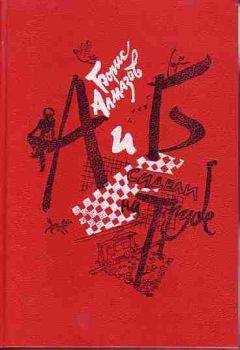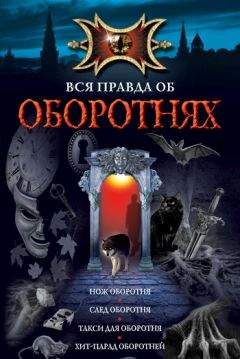«Вот он, вот он мой хозяин! — означали эти прыжки и лизание. — Я знал, что он вернется! Я знал, что он меня не бросит!»
— Да ладно! Ладно тебе! — начал отмахиваться от уникального пса Вовка. — Прекрати! Но справиться с Георгином было не просто.
— Отстань, я сказал! — закричал Вовка, хватая пса за ошейник. И тут же его руки сделались липкими, а в нос ударила такая вонь, что глаза сами собой заслезились. Стюдебеккер от кончиков ушей до обрубка хвоста был вывален в каких-то невероятных осклизлых помоях. Тошнотворный запах падали, густо валивший от него, сбивал с ног.
— Фффууу! — застонал Вовка. — Где ж ты так вывалялся? Где ж ты нашел такую дрянь? Паразит! Ну что теперь с тобой делать? А ну домой! Домой быстро и мыться!
Георгин не возражал. Несколько раз он тихонечко вякнул во тьму, точно с кем-то прощался, и громадными прыжками помчался к обитой клеенкой Вовкиной двери на шестом этаже.
Мыть его пришлось долго. Бабка горестно причитала. Мама только укоризненно взглянула на Вовку и быстро-быстро, даже не попив как следует чаю, ушла на работу.
Вовка извел на стюдебеккера все хозяйственное мыло, весь шампунь. Опрыскал его отцовским одеколоном «После бритья». Георгин чихал, скулил, преданно заглядывал в глаза. Норовил лизнуть Вовку в нос.
А вонь не проходила! Правда, теперь она уже шла не от самого пса. Он теперь благоухал, как весенняя клумба. Но запах падали перекочевал на вещи, на стены квартиры. Вовка даже не смог съесть свою любимую манную кашу напополам с малиновым вареньем! Хотя и пытался есть около распахнутой настежь балконной двери. Первый раз в жизни он не мог дождаться, когда можно будет идти в школу! Но запах, принесенный в дом стюдебеккером, не покидал его и там. Особенно воняла одежда. Сколько ни стирал ее Вовка снегом, а вся грудь у пальто была истоптана собачьими лапами.
Домой он возвращался с опаской. Его томило нехорошее предчувствие.
И не зря!..
…Еще в парадной на него неистово пахнуло псиной. Стараясь не вступить в лужи, налитые по всей лестнице, Вовка добрался до своей площадки и обмер.
Перед дверью его родной квартиры лежали разномастные дворняги, пропыленные, как старые швабры, болонки, облезлый спаниель и жуткий висломордый боксер… Все эти экспонаты собачьей выставки с почтительным вниманием слушали, как за дверью на все лады завывает Георгин.
Стюдебеккер выл вдохновенно. И слушатели ловили каждый звук, каждый забористый переход. Иногда особенно взволнованная пением шавка начинала подвывать, а остальные сочувственно вздыхали и нервно болтали разнокалиберными хвостами. В перерывах между музыкальными номерами они драли зубами и когтями клеенку дверной обивки и задирали ноги на косяки.
Бочком-бочком протиснулся Вовка мимо собачьего концертного зала и, едва попадая ключом в замочную скважину, проник в свою квартиру.
Тут на него бурей налетел Георгин, чуть не повалил от радости, чуть не задушил в объятьях. С трудом окоротил Вовка взбесившегося от любви к хозяину пса и услышал тоненькие причитания.
Он вбежал в кухню и обмер.
Холодильник, как и накануне вечером, был раскрыт настежь и совершенно выпотрошен. А на кухонном столе стояла табуретка и на ней со шваброй в руках сидела и причитала бабуля…
— Да что ж ета делается! — стенала она, раскачиваясь из стороны в сторону. — Да что ж эта за жизнь пошла! Да откудова такие собаки образовались? Аспиды!
— Ну, Герой! — озлился Вовка. Георгин преданно топтался рядом.
— Уеду! — возглашала бабуля, слезая с пьедестала. — Как бог свят, уеду. У меня и другие дочери имеются! К Веры поеду, у Вере Стасик собакам хвосты не крутить, он рябенок тихай, у него — рыбки.
— Рыбки тоже всякие бывают! — сказал Вовка, который не любил своего двоюродного брата, хотя никогда его не видел. Просто этого неведомого Стасика все время ставили Вовке в пример.
— Уж каки бы ни были, а в горло кидаться не будут… Ведь это ужасти какие! Только я, мил мои, в холодильник, энтот аспид — шасть! — как конь меня стоптал и туды! Я его шваброй — за таковое следоват, — а ен ощерился! Чистая тигра… Так рыкнул, что я как птица на возвышение-то вознеслась! Уеду! Ноги моей в этим собачнике не будет!
— Рыбки тоже… — сказал Вовка. — Не обрадуешься…
— Чегой-то? — подозрительно посмотрела на внука бабуля. — Рыбки, оне в аквариуме, от их вреда не будет.
— Ну да! — сказал Вовка. — Вот к примеру, пираньи… Они за минуту быка на фарш разделывают. Станешь такую в аквариуме кормить, а она — цап за руку — и отхватит по локоть!
Вовка постоянно с бабулей ругался, но ему совсем не хотелось, чтобы бабуля уезжала. Бабуля была непробиваемым заслоном против отцовского гнева, а кроме того, вместе с ней уехали бы пирожки, оладьи и булочки, до которых Вовка был великий охотник.
— А я пиратов-то твоих кормить не стану! — сказала бабуля. — Пущай их хозяева кормят. Не станут же они на хозяев бросаться!
— Да они с голодухи по комнате бегать начнут! — делая большие глаза, сказал Вовка.
— Свят-свят-свят… Да нешто рыбы без воды могут?
— А как же! И летающие рыбы бывают, и ползающие. Хочешь, сейчас на картинке покажу?
— Вот до чего дожились! — горестно вздохнула бабка. — Не надо мне твоих картинок… Я к Марее поеду. У Марее Сашенька марки копит.
Хотел было Вовка поведать простодушной бабуле про ценность марок. Хотел сымпровизировать историю с гангстерами и ограблениями, но поглядел на бабулин беленький платочек, на фартук, на коричневые руки… и не стал.
— Бабуленька! — сказал он, шмыгнув носом. — Как же я тут без тебя? Не уезжай!
Бабка промокнула глаза концом фартука.
— А придурка мы этого обучим! Я его завтра же в школу служебного собаководства отведу. Там из него человека сделают!
Придурок все время путался под ногами, а сейчас, склонив голову набок, глядел на бабулю и сочувственно вздыхал, точно это не он загнал старушку на стол и продержал ее там полдня.
— Бабулечка, не уезжай! — просил Вовка. — Я тебе во всем помогать буду, я и в булочную, и за молоком…
Старушка всхлипнула и поцеловала Вовку в лоб.
— Один ты мой желанный! Заступа моя надежная!
И Вовка, сразу ощутив себя надежной заступой, закричал:
— А эту собачью филармонию я мигом ликвидирую, они у меня сейчас во все стороны, как космические ракеты, полетят!
Не слушая возражений бабули, он кинулся в ванну, набрал ведро воды. Георгин, предвкушая незабываемое зрелище, приплясывая, кидался за ним. У входной двери стюдебеккер, вероятно, сообразил, для кого вода в ведре предназначается, и прямо-таки зашелся от радости.
— Ну и скотина же ты! — сказал ему Вовка, тихо открывая дверной замок. — Там же все-таки дружки твои! Ты же их сам, наверное, назвал сюда! Эх ты!
Георгин попытался изобразить смущение, но у него плохо получилось. На его бандитской роже просто сияло ожидание каверзы. Он скакал на задних лапах, постанывая от нетерпения. Словно говорил:
«Давай, хозяин, давай! Ну, конечно, они мои друзья! Но ведь ты же их не кипятком хочешь облить… Если кипятком — другое дело. А так, кроме смеха, ничего не ожидается… Ну, давай же побыстрей! Что ты тянешь!»
Вовка пинком ноги раскрыл створку двери и с криком: «А вот я вас, сволочей!» — выплеснул все ведро без остатка.
Георгин зашелся от радости!
Вовка выглянул за дверь и чуть не потерял сознание. На лестничной площадке, мокрый с ног до головы, стоял отец. От него шел пар.
— Вот… — растерянно промолвил он. — Я пораньше отпросился… Мол, как тут у вас…
Георгин от восторга ходил на задних лапах и бил чечетку.
— Со школой, видите, тоже «не кругло»…
… — сказал отец, когда Вовка с Георгином приплелись домой. В школу их не приняли, а вот на собачью площадку пригласили.
— Для прохождения, так сказать, курса молодого бойца! — сказал старичок с помидорными щечками и кустистыми бровями: тренер-кинолог. Так он себя назвал.
Был он подтянут, молодцеват, как и положено старому военному. Он весело сверкал пластмассовыми зубами. Бодро похлопывал трехпалой варежкой крепкие барьеры, прочные лестницы, притоптывал ногой в белой бурке с луковичным кожаным носком по бумам и прочим замысловатым приспособлениям собачьего воспитания.
Георгин его настроения не разделял. Ссутулившись, как американский безработный, он уныло взирал на площадку и на своих будущих однокашников.
Кинолог же при виде Георгина полез в нагрудный внутренний карман за очками. Он обошел стюдебеккера вокруг, беззвучно шевеля морщинистыми, гладко выбритыми щечками и закатывая голубые глазки под мерлушковую папаху.
— Пятнадцать! — сказал он наконец. — По самым скромным подсчетам, пятнадцать. Но пятнадцать — наверняка!