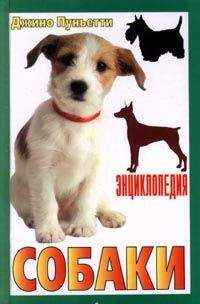Он вернулся.
В какие-нибудь пятнадцать минут я измучил его и на всю жизнь напугал лесом пустым, без человека, поселил в нем ужас к жизни его предков, диких волков. И когда, наконец-то, я нарочно шевельнулся в кусту и он услыхал это, и я закурил трубку, а он почуял запах табаку и узнал, то уши его опустились, голова стала гладкой, как арбуз. Я встал. Он лег виноватый. Я вышел из куста, погладил его, и он бросился в безумной радости с визгом скакать.
Однажды я лишился своей легавой собаки и я охотился по бродкам, значит, росистым утром находил следы птиц на траве и по ним добирал, как собака, и не могу наверно сказать, но мне кажется, я немного и чуял.
В то время верст за тридцать от нас ветеринарному фельдшеру удалось повязать свою замечательную ирландскую суку с кобелем той же породы, та и другая собаки были из одного разгромленного богатого имения. И вот однажды в тот самый момент, когда жить стило особенно трудно, один мой приятель доставил мне шестинедельного щенка-ирландца. Я не отказался от подарка и выходил себе друга. Натаска без ружья мне доставляет иногда наслаждение не меньшее, чем настоящая охота с ружьем.
Помню, раз было… На вырубке вокруг старых черных пней было множество высоких, елочкой, красных цветов, и от них вся вырубка казалась красной, хотя гораздо больше тут было Иван-да-Марьи, цветов наполовину синих, наполовину желтых, во множестве тут были тоже и белые ромашки с желтой пуговкой в сердце, звонцы, синие колокольчики, лиловое кукушкино платье, — каких, каких цветов не было, но от красных елочек, казалось, вся вырубка была красная. А возле черных пней еще можно было найти переспелую и очень сладкую землянику. Летним временем дождик совсем не мешает, я пересидел его под елкой, сюда же в сухое место собрались от дождя комары, и как ни дымил я на них из своей трубки — собаку мою, Ярика, они очень мучили. Пришлось развести грудок, как у нас называют костер, дым от еловых шишек повалил очень густой, и скоро мы выжили комаров и выгнали их на дождик. Но не успели мы с комарами расправиться, дождик перестал. Летний дождик — одно только удовольствие.
Пришлось все-таки под елкой просидеть еще с полчаса и дождаться, пока птицы выйдут кормиться и дадут по росе свежие следы. Когда по расчету это время прошло, мы вышли на красную вырубку, и, сказав:
— Ищи, друг! — я пустил своего Ярика.
Ярику теперь пошло третье поле. Он проходит под моим руководством высший курс ирландского сеттера, третье поле — конец ученью, и если все будет благополучно, в конце этого лета у меня будет лучшая в мире охотничья собака, выученный мной ирландский сеттер, неутомимый и с чутьем на громадное расстояние.
Часто я с завистью смотрю на нос своего Ярика и думаю: «Вот, если бы мне такой аппарат, вот побежал бы я на ветерок по цветущей красной вырубке и ловил бы и ловил интересные мне запахи».
Но не чуткие мы и лишены громадного удовольствия. Мы постоянно спрашиваем: «Как ваше зрение, хорошо ли вы слышите?», но никто из нас не спросит: «Как вы чуете, как у вас дела с носом?» Много лет я учу охотничьих собак. Всегда, если собака причует дичь и поведет, испытываю большое радостное волнение и часто думаю: «Что же это было бы, если бы не Ярик, а я сам чуял дичь?»
— Ну, ищи, гражданин! — повторил я своему другу.
И он пустился кругами по красной вырубке.
Скоро на опушке Ярик остановился под деревьями, крепко обнюхал место, искоса, очень серьезно посмотрев на меня, пригласил следовать: мы понимаем друг друга без слов. Он повел меня за собой очень медленно, сам же уменьшился на ногах и очень стал похож на лисицу.
Так мы пришли к густой заросли, в которую пролезть мог только Ярик, но одного его пустить туда я бы не решился: один он мог увлечься птицами, кинуться на них, мокрых от дождя, и погубить все мои труды по обучению. С сожалением хотел было я его отозвать, но вдруг он вильнул своим великолепным, похожим на крыло, хвостом, взглянул на меня; я понял, он говорил:
— Они тут ночевали, а кормились на поляне с красными цветами.
— Как же быть? — спросил я.
Он понюхал цветы: следов не было. И все стало понятно: дождик смыл все следы, а те, по которым мы шли, сохранились, потому что были под деревьями.
Оставалось сделать новый круг по вырубке до встречи с новыми следами после дождя. Но Ярик и полукруга не сделал, остановился возле небольшого, но очень густого куста. Запах тетеревов пахнул ему на всем ходу, и потому он стал в очень странной позе, весь кольцом изогнулся и, если бы хотел, мог во все удовольствие любоваться своим великолепным хвостом. Я поспешил к нему, огладил и шепотом сказал:
— Иди, если можно!
Он распрямился, попробовал шагнуть вперед, и это оказалось возможно, только очень тихо. Так, обойдя весь куст кругом, он дал мне понять: «Они тут были во время дождя».
И уже по самому свежему следу, по роске, по видимому глазом зеленому бродку на седой от капель дождя траве повел, касаясь своим длинным пером на хвосте самой земли.
Вероятно, они услышали нас и тоже пошли вперед, я это понял по Ярику, он мне по-своему доложил:
— Идут впереди нас и очень близко.
Они все вошли в большой куст можжевельника, и тут Ярик сделал свою последнюю мертвую стойку. До сих пор ему еще можно было время от времени раскрывать рот и хахать, выпуская свой длинный розовый язык, теперь же челюсти были крепко стиснуты, и только маленький кончик языка, не успевший вовремя вобраться в рот, торчал из-под губы, как розовый лепесток. Комар сел на розовый кончик, впился, стал наливаться, и видно было, как темно-коричневая, словно клеенчатая, тюпка на носу Ярика волновалась от боли и танцевала от запаха, но убрать язык было невозможно: если открыть рот, то оттуда может сильно хахнуть и птиц испугать.
Но я не так волновался, как Ярик, осторожно подошел, ловким щелчком скинул комара и полюбовался на Ярика сбоку: как изваянный, стоял он с вытянутым в линию спины хвостом-крылом, а зато в глазах собралась в двух точках вся жизнь.
Тихонько я обошел куст и стал против Ярика, чтобы птицы не улетели за куст невидимо, а поднялись вверх.
Мы так довольно долго стояли, и, конечно, они в кусту хорошо знали, что мы стоим с двух сторон.
Я сделал шаг к кусту и услышал голос тетеревиной матки, она квохнула и этим сказала детям.
— Лечу, посмотрю, а вы пока посидите.
И со страшным треском вылетела.
Если бы на меня она полетела, то Ярик бы не тронулся, и если бы даже просто полетела над ним, он не забыл бы, что главная добыча сидит в кусту, и какое это страшное преступление бежать за взлетевшей птицей. Но большая серая, почти в курицу, птица вдруг кувыркнулась в воздухе, подлетела почти к самому Ярикову носу и над самой землей тихонько полетела, маня его криком:
— Догоняй же, я летать не умею!
И, как убитая, в десяти шагах упала на траву и по ней побежала, шевеля высокие красные цветы.
Этого Ярик не выдержал и, забыв годы моей науки, ринулся.
Фокус удался, она отманила зверя от выводка и, крикнув в кусты детям.
— Летите, летите все в разные стороны, — сама вдруг взмыла над лесом и была такова.
Молодые тетерева разлетелись в разные стороны, и как будто слышалось издали Ярику:
— Дурак, дурак!
— Назад! — крикнул я своему одураченному другу.
Он опомнился и виноватый медленно стал подходить.
Особенным, жалким голосом я спрашиваю:
— Что ты сделал?
Он лег.
— Ну, иди же, иди!
Ползет виноватый, кладет мне на коленку голову, очень просит простить.
— Ладно, — говорю я, усаживаясь в куст, — лезь за мной, смирно сиди, не хахай: мы сейчас с тобой одурачим всю эту публику.
Минут через десять я тихонько свищу, как тетеревята:
— Фиу, фиу!
Значит:
— Где ты, мама?
— Квох, квох, — отвечает она, и это значит:
— Иду!
Тогда с разных сторон засвистело, как я:
— Где ты, мама?
— Иду, иду, — всем отвечает она.
Один цыпленок свистит очень близко от меня, я ему отвечаю, он бежит, и вот я вижу у меня возле самой коленки шевелится трава.
Посмотрев Ярику в глаза, погрозив ему кулаком, я быстро накрываю ладонью шевелящееся место и вытаскиваю серого, величиною с голубя, цыпленка.
— Ну, понюхай, — тихонько говорю Ярику.
Он отвертывает нос: боится хамкнуть.
— Нет, брат, нет, — жалким голосом прошу я, — поню-хай-ка!
Нюхает, а сам, как паровоз.
Самое сильное наказание.
Вот теперь я уже смело свищу и знаю, непременно прибежит ко мне матка: всех соберет, одного не хватит — и прибежит за последним.
Их всех, кроме моего, семь; слышу, как один за другим, отыскав мать, смолкают, и когда все семь смолкли, я, восьмой, спрашиваю:
— Где ты, мама?
— Иди к нам, — отвечает она.
— Фиу, фиу: нет, ты веди всех ко мне.
Идет, бежит, вижу, как из травы то тут, то там, как горлышко бутылки, высунется ее шея, а за ней везде шевелит траву и весь ее выводок.