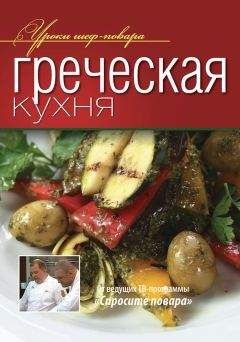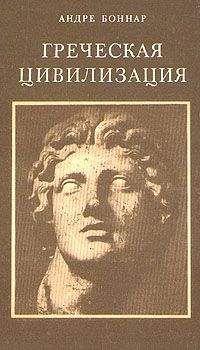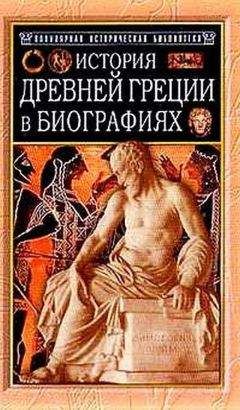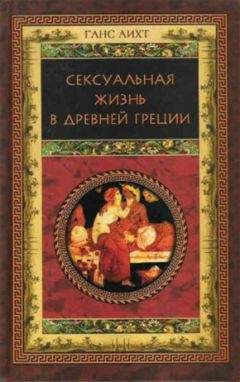С характерным примером мы встречаемся в любовном романе Ахилла Татия (viii), где часть речи жрицы Артемиды состоит исключительно из непристойностей, высказываемых невинными, на первый взгляд, словами.
В одной из эпиграмм «Палатинской Антологии» (v, 99), адресованной танцору, используется музыкальная терминология, под которой таится обсценный смысл.
Мы с уверенностью можем говорить о том, что обычная всегда и везде привычка писать более или менее непристойные слова, выражения, стихи и рисовать картинки на стенах публичных уборных существовала также и в Древней Греции, хотя по вполне естественным причинам мы и не располагаем непосредственными свидетельствами на этот счет. Как сообщает Калинка, эпиграмма необсценного характера была обнаружена на стене отхожего места в Эфесе.
Взгляды греков на инцест, как и взгляды всех наивных народов, отличались от современных меньшей строгостью. Это показывает греческая мифология, ибо Зевс, отец богов и людей, является мужем своей сестры Геры. Однако общественное мнение отвергало инцест, хотя, пожалуй, нигде и никогда в Греции не существовало суровых наказаний за него. От Исея мы узнаем, что запрещались браки между родственниками по восходящей и нисходящей линии, а в более древнюю эпоху под запретом находились также браки между братьями и сестрами; позднее такие браки допускались при условии, что жених и невеста происходят от разных матерей. Не считая этих ограничений, браки между родственниками были не редкостью, а в консервативных аристократических семьях вплоть до V века не был чем-то неслыханным даже брак между родными братом и сестрой, о чем свидетельствует супружество Кимона и Эльпиники. Примеру египтян, среди которых подобные браки существовали всегда, подражали жившие в этой стране греки, ценившие этот обычай за то, что приданое остается в семье. Хорошо известно, что царь Птолемей II (285-247 гг. до н.э.), женившись на своей сестре Арсиное, принял прозвание Филадельфа. Чтобы сохранить приданое в демье, было также законодательно закреплено, что дочь-наследница (έπίκληρος), т.е. девушка, в руки которой переходило все родительское имущество, обязана выйти замуж за ближайшего неженатого родственника.
Естественно, что нередко имели место случаи вырождения. Так, Андокид (De myst,, 124) порицает некоего афинянина следующими словами: «Затем он женился на дочери Исхомаха и, не прожив с ней и года, он овладел также ее матерью, жил с матерью и дочерью, держа обеих в своем доме». Говорили, что Алкивиад вел себя еще безумнее, если верить тому, что сообщает о нем Лисий (см. с. 15).
Как бы то ни было, общественное мнение не одобряло инцест как таковой, о чем можно судить по многочисленным мифологическим преданиям, внушающим к нему отвращение. Достаточно напомнить общеизвестный миф об Эдипе, который разумеется, не подозревая об этом — женился на своей матери Иокасте, или миф о Кавне, который любил собственную сестру Библиду.
Мотивы инцеста нередко выводились на сцене, как, например, в трагедии Еврипида «Эол» (TGF, 365 ел.). Драма не сохранилась, но ее содержание известно по рассказу Сострата. Царь Эол имел шестерых дочерей и шестерых сыновей, старший из которых — Макарей — был влюблен в свою сестру Канаку и заставил ее отдаться ему. Когда об этом прослышал отец, он послал дочери меч, которым она и закололась. Тем же мечом с собой покончил Макарей. Когда во время представления прозвучал стих «Ничто приятное нас не позорит и не пятнает», в театре тут же поднялся ропот, так как зрители негодовали на эту фривольную и возмутительную выходку; успокоить их удалось лишь Антисфену, который переделал стих таким образом: «Позорное останется позорным, приятно оно нам иль неприятно».
За непристойность «Эола» часто порицает Аристофан. В другом месте он присоединяет к существительному «инцест» прилагательные «предосудительный» и «варварский». Однако данный мотив был намечен уже у Гомера, который изображает шестерых сыновей Эола мирно живущими в браке со своими шестью сестрами[179].
Наконец, следует отметить, что инцест во сне — даже инцест гомосексуального вида — отнюдь не был какой-то редкостью, по крайней мере, если мы вправе делать выводы на основании той обстоятельности, с которой он описывается и истолковывается в сонниках.
Термин «скатология», обычно используемый в современной сексологии, происходит от слова σκώρ (gen. σκατάς) — «нечистоты», «кал». Неаппетитные выделения человеческого тела, даже экскременты привлекают воображение детей и тех, кто всю жизнь остается ребенком, в значительно большей мере, чем многие себе представляют. Главным местом, где проявляются и удовлетворяются скатологические наклонности, являются общественные· уборные, стены которых зачастую и в наши дни испещрены грубыми или эротическими надписями и рисунками. Само собой понятно, что и в Древней Греции дело обстояло таким же образом, хотя мы, разумеется, не можем это детально доказать. Однако существенным различием между двумя эпохами является то, что тогда скатология находила открытое выражение в литературе и искусстве, а не только в подпольной порнографии, как сегодня. Нетрудно уразуметь, что большинство примеров скатологии встречаются в комической и сатирической поэзии, хотя нет недостатка и в серьезных текстах, которые затрагивали бы процесс выделения продуктов человеческой жизнедеятельности. Так, мы уже говорили об указаниях простодушного крестьянского поэта Гесиода относительно того, как следует мочиться.
Схожим образом и Геродот сообщает, что среди персов было запрещено плевать или мочиться в присутствии другого лица (i, 133).
Когда маленькие дети желали помочиться, их мать или кормилица говорили σεΓν, если же они хотели облегчиться, говорилось βρΰν.
О мочеиспускании часто заходит речь в комедии. Так, в «Облаках» Аристофана (373) простец Стрепсиад объясняет дождь, предположив, что это Зевс мочится сквозь сито. В «Лисистрате» (402) корифей хора старцев жалуется на женщин, которые «окатили нас из ведра, так что теперь нам приходится выжимать свою одежду, словно описавшимся». В «Женщинах в народном собрании» (832) гражданин объявляет, что теперь он будет настороже и «не позволит женщинам его описать». Мочащиеся мальчики упоминаются в «Мире» (1266).
Ночной горшок по-гречески обычно называется άμίς. На буйных пирушках иногда случалось, что один из гостей кричал мальчику-слуге: «Неси ночной горшок!» Согласно отрывку из Евполида (см. выше, с. 13), родителем этого нововведения считался Алкивиад, тогда как Афиней (xiii, 519е) приписывает его сибаритам[180].
Исходя из современных представлений, мы должны были бы счесть невозможным, чтобы этот сосуд упоминали даже серьезные трагические авторы. Но уже у Эсхила— Одиссей говорит: «Вот этот плут метнул в меня однажды потешный снаряд, вонючий ночной горшок, и не промахнулся; он попал мне в голову и потерпел кораблекрушение, расколовшись на куски и издавая совсем не такой запах, каким пахнут сосуды с благовониями» (фрагм. 180; TGF, 59). Мы не знаем, где искать корни этого отрывка — в трагедии или, как предполагал Велькер, в сатировской драме. Афиней, цитирующий эти строки (i, 17), порицает Эсхила за то, что тот заставляет гомеровских героев предаваться сумасбродствам своего времени, однако Софокл, в «Собрании ахеян» (фрагм. 140; TGF, 162), предположительно сатировской драме, также изображал аналогичные сцены, пользуясь схожими выражениями.
Существовали и другие названия для ночного горшка, такие, как ούράνη, ένουρήθρα и οϋρητρίς. Женский горшок напоминал формой лодку и поэтому назывался словом okaфwv (Аристофан, Thesm., 633), которое перешло в латинский, язык как scaphium (Ювенал, vi, 264; Марциал, xi, 11). Среди художественных изображений можно упомянуть вазу из Берлинского Антиквариума, на которой мы видим красивую девушку в дорийском хитоне. Склонив голову и вытянув указательный палец правой руки, она подает знак юноше в образе Эрота, который спешит к ней с довольно вместительным «судном». На одной из помпейских фресок изображен пьяный Геракл и стоящий позади него Силен, мочащийся ему на правую ногу. Беспутные пьяные сатиры, использующие в качестве ночного горшка сосуды, которые изначально предназначены для иного применения, — эта сценка часто воспроизводится в греческой вазописи.
Невоздержность на попойках вновь и вновь приводила к необходимости воспользоваться своего рода плевательницей, называвшейся σκάφη или λεβήτιον. Во фрагменте из комедии Аристофана (49; CAF, I, 404) гость просит принести перо, чтобы пощекотать в горле, и плевательницу. На вазах нередко изображаются юноши и мужчины, которых рвет.