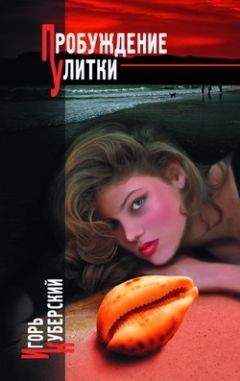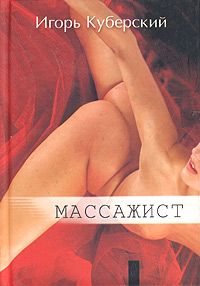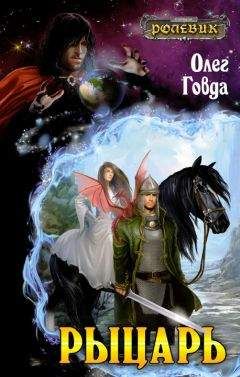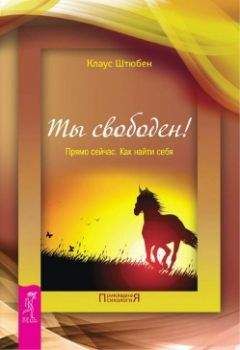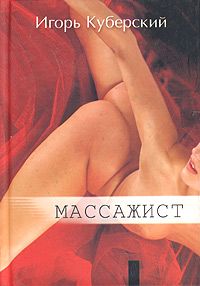Я позвонил ей в Рождество, я знал, что она уже дома.
– Да... – ответил мужской голос, и я положил трубку.
Что можно услышать в секунду звучания этой утвердительной частицы русского языка? Я услышал все. Я услышал то, что и ожидал услышать. В голосе звучало плохо скрываемая досада, раздражение и растерянность. Конечно, Улитка рядом – это из-за нее он так... Он снова вынужден заступать на круглосуточную вахту. Для этого ему понадобится дополнительный отпуск за свой счет. Наверно, уже взял. Но через два дня, решив, что отпуск врачу-терапевту не дали по причине эпидемии гриппа, я снова позвонил. Я позвонил в полдень, когда, по моим понятиям, врачи-терапевты ведут прием гриппозных больных в своих районных, городских и ведомственных поликлиниках. Повод позвонить у меня, конечно, был – то ли какое-то залежавшееся у Улитки мое барахло, то ли книги, то ли этюдник, вдруг я засобирался на зимний пейзаж.
– Алло? – сказал ее родной голос, безрадостный, но твердый, и, как я ни готовил первую фразу и интонацию, я не уверен, что не выдал себя. У Улитки был тонкий слух, и читала она между строк. Да, я что-то там попросил, и она сказала: – Хорошо. Тебе это срочно нужно?
Вопрос меня ударил, и все во мне почернело. Я усложнял ее жизнь, ее проблемы, связанные вовсе не со мной.
– Хотелось бы до Нового года, потому что... – и я мрачно присочинил какие-то обстоятельства.
– Дело в том, что мне сейчас надо на работу... – извиняющимся тоном сказала она.
Вот оно что! А я подумал на другое. А она готова встретиться чуть ли не сейчас!
– Ради Бога! – сказал я, и в мрачном полыхнуло светлое. – Ради Бога, извини. Я не хочу тебя утруждать...
– Какие тут труды... – сказала она, и голос ее слабо улыбнулся.
– Я тогда еще позвоню, – сказал я.
– Конечно, звони, – сказала она. – В любое время.
Боже, откуда этот свет, этот луч во мраке? Радостно и больно! Что же это такое? Что же она такое сказала, что мне радостно и больно и какая-то другая жизнь вдруг во мне – словно вынули одну и поставили другую, как видеокассету, и нажали кнопку, и пошло-поехало цветное изображение, полилась музыка... «В любое время», – сказала она. Что это значит?
Это значило все!
Кое– как я прожил еще два дня, на дворе было двадцать девятое, по городу несли елки, на Невском перед Гостиным двором на темных огромных елях – неужели такими бы стали эти вырубленные до срока рахитики? – болтались детские пластиковые игрушки, мои немногочисленные друзья спрашивали, где я собираюсь встречать Новый год, я отвечал, что пока не знаю, лелея невозможную мечту, и вот я позвонил ей, как обещал, и она сказала:
– Приходи, когда тебе удобно. Я тут одна...
Вот и все. Я положил трубку. Мне было трудно дышать. Я бы заплакал, но не смог. А еще через несколько минут я почувствовал, что не хочу к ней идти.
Утром тридцатого она позвонила сама.
– Ты знаешь, я была в больнице, – сказала она. – Я никого не хотела видеть, никого к себе не пускала. Один только Дима ходил. Я вообще плохо помню, что было до больницы. Какой-то туман. Будто я себя потеряла. А в больнице... в больнице я снова себя нашла и стала сильной. О, я стала такой сильной! Я вернулась, а он тут у меня живет... Я не могла его больше видеть. Я так ему и сказала. Я его прогнала. «Я тебя ненавижу», – сказала я, и он ушел. И мне было так хорошо одной первые дни. А сейчас, – голос ее дрогнул, – сейчас что-то снова накатывает. Мне страшно, и я снова не сплю. Какие-то чудовища приходят по ночам и водят, таскают меня за собой и мучают, мучают. Я не могу заснуть. Я чувствую, что снова теряю себя. Я думаю: «Там Игнат» – и хочу к тебе. Но не могу, не знаю почему... – и она заплакала.
Я слышал, как она плачет в трубке, и сердце мое было холодным.
– Приезжай ко мне, – сказал я. – Ты можешь сейчас ко мне приехать?
– Да, – сказала она.
– Я встречу тебя, – сказал я. – Через час я подойду к метро. Ты успеешь?
– Да, – послушно сказала она. – Жди меня.
Ровно через пятьдесят минут я надел куртку и пошел к метро. Падал снег. Маленький и мокрый, быстрый. Торопливый снег. Словно понимал, что мало его еще, и прибывал до новогодней нормы. Нет, слишком рано она ко мне возвращалась, я был не готов. Я положил нам другой срок. Так быстро я не умею. Есть же какие-то законы, по которым живет чувство. Быстрые ребята... Я так не могу. Я так не умею. Это вам не шуточки: любит – не любит, плюнет – поцелует... Выбирайте что-нибудь одно. Нельзя все в кучу. Такой компот не переварить. Я выбрал, я честно ушел, уполз, забился в темный угол – молчать и зализывать раны, набираться терпения и прозревать, учиться всепрощению, а меня вытаскивают, манят пальчиком: что ты там пригорюнился, буйну голову повесил? Иди ко мне, хочу к тебе, все хорошо... А завтра... очень может быть, что завтра она скажет мне то же самое, что ему. Нет, не скажет. Я всегда уходил хоть на минуту, но раньше, чем она этого захочет. И потому она всегда была мне рада. Это же так просто. Это Генри Торо, я ей рассказывал, и она ввела его в круг своих друзей, хотя не прочла у него ни строчки. Я ей передал много своих друзей. О, эта счастливая способность схватывать все на лету. Быстрота ума. Когда нет нужды разжевывать. А если уж говорить, то только о крупном, о главном. Как интересно с ней! Нет, конечно, я ее люблю. Это самообман, что мне все равно. Это я осеняю себя крестным знамением от наговора, от злого глаза, от зависти. Я слишком счастлив, я счастлив настолько, что вынужден это скрывать, иначе меня растерзают, разорвут на части все эти бедные люди вокруг с мрачными озабоченными лицами – они разорвут меня на куски, потому что им кажется, что большое счастье состоит из тысячи маленьких. Эскалатор выбирал темную людскую породу из нутра земли и рассыпал по поверхности, кого куда, и не было в них радости, и не знали они цели, ради которой стоило жить. А я знал, я стоял рядом с ними, ну, чуть в стороне от их нескончаемой вереницы, и боялся поднять глаза, чтобы не выдать себя.
Улитка опаздывала. Обычно она была точной. Она была самой точной женщиной из всех, кого я знал. Она и меня побуждала к точности. Это означало – уважать чужое время. И еще – уважать чужие чувства. Да, да, те самые, о которых говорил Лис Маленькому принцу. Какого же он все-таки рода, этот Лис? Странная у них любовь. Итак, я подготовил свое сердце к встрече с Улиткой, а ее все не было. Ее не было уже пятнадцать минут, этот месяц все-таки выбил ее из колеи. Прошло полчаса, прежде я почувствовал, что пожалуй, неправильно подготовил свое сердце, и вообще зря его готовил. Лучше бы и не вспоминал о нем. Ведь я пришел, чтобы пожалеть ее, помочь, коль скоро она об этом попросила, она ведь никогда ни о чем не просила, кажется, не просила и теперь, но сказала, что теряет себя и ей страшно, и я сказал – приезжай, то есть просьба все-таки была, хоть в скрытой форме, но была. Она так послушно согласилась приехать. Она ведь так быстро решала в ответ, быстрее, чем я предлагал, так что у меня всегда оставался некоторый излишек слов, который я по инерции договаривал после ее «да». С ней было всегда так легко договариваться. Можно было позвонить среди ночи и сказать:
– Давай поедем в Москву?
И она скажет:
– Поедем, – и никогда – «почему, зачем»?
Прошел час, а ее не было. Неужели что-то случилось? Я не знал, что делать: стоять, ждать – ведь она могла появиться с минуты на минуту – или же все-таки бежать к телефонам-автоматам, которые были только на улице? Я боялся ее упустить – это опять чуть ли не означало потерять. Я больше не найду ее, если потеряю. Она ехала ко мне из точки «а», и я стоял в точке «б» и ждал ее, это был кратчайший путь, приводящий ко мне, и еще час назад мне казалось, что у случайности нет ни одного шанса помешать мне на этом отрезке, но час прошел, а Улитки не было. Уже час ею верховодило нечто непредвиденное... Или опять ОН? Да, она вышла, захлопнула дверь, спустилась по лестнице, а на нижней площадке стоял он, бедный, несчастный, не спавший трое суток. В руках у него был букет роз. Так что, если я сейчас позвоню, трубку снимет он, и это будет конец. И мне ничего не остается, как только ускорить его.
Я залез в промерзшую, грязную, вонючую телефонную будку и, косясь на выход из метро, набрал Улиткин номер. Телефон молчал. Фу... Так-то легче. Значит, она поехала ко мне. Но что-то ей помешало. Что-то или кто-то. Ну конечно – он повез ее к себе. Нет, он вошел к ней. И они просто не отвечают на звонки. Им не до того. Зачем отвечать на каждый звонок? Мы тоже не отвечали. А телефон звонил, звонил, будто догадываясь, что мы дома, будто желая помешать нам, разорвать наши объятия, и, пожалуй, разрывал их, хотя руки оставались сцеплены, – разрывал, потому что наши души разъединялись и каждая порознь тревожно прислушивалась и гадала – кто же это такой настырный...
И я снова звонил, неистово вслушиваясь в акустику гудков, соответствующих телефонному звону в Улиткиной квартире, будто мог проникнуть вместе с ним в те стены, чтобы узнать, понять, увидеть. Нет, пустотой откликались во мне эти звонки – если бы там кто-то затаился, эхо было бы иным. И вдруг страшная догадка осенила меня – она погибла! Что же делать? Уже полтора часа я болтался у метро, в то время как она звонила мне домой, чтобы я помог, спас, вынес. Как же так? Теперь поздно. Теперь уже не она – другие звонили мне, чтобы сказать о ней. Но кто бы позвонил? Оказывается, на самый страшный случай у нас не было связи, наша связь была рассчитана на нормальный ход вещей. Они даже не знают, что у нее есть самый близкий на земле человек, который первым должен оказаться рядом с ней, живой или мертвой.