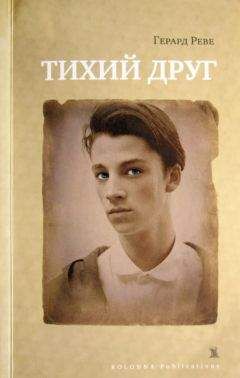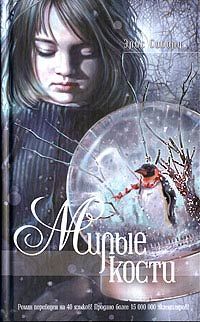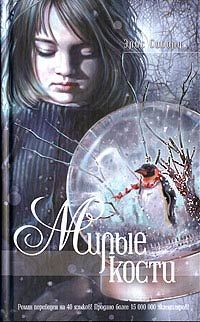— Что, что такое?
Мышонок слегка привстал, но, слава богу, занятия своего не бросил.
— Нет, ничего; действуй дальше, Мышонок. Лучше не отвлекайся от своего великолепного золотисто-русого тромбона…
— Ты чего тут наплел?
— Я просто подумал о войне, Мышонок: как хорошеют и ожесточаются мальчики, когда разражается война… Помню то времечко, в Индии — я тогда был в чине лейтенанта; как мы издевались над парнями, сидевшими у нас за решеткой. Нет-нет, теперь уж точно — никаких лирических отступлений… Хотя, возможно, я бы мог соединить приятное с полезным: рассказ в рассказе, как водилось у истинных художников, так что одно дополняло другое… Да, слава тебе, Господи, и такое я видывал…
— Я лежал, засадив этому рулевому в задницу… Я задвинул ему, Мышонок, — там, в койке корабельной каюты, и продолжал все больше возбуждать его — так, что он урчал от вожделения, и извивался, и корчился всем своим темно-русым гибким телом; и я подумал, Мышонок, что, пожалуй, стоило бы помучить его так же, как мы мучили и допрашивали мальчишек там, в нашей Индии, когда я был лейтенантом военной полиции…
— А мне как-то всегда казалось, что в морской пехоте ты служил, Волчонок — уж извините, конечно.
— Правильно казалось, о божественный наездник юношей. Но из-за этого развороченного колена…
— Все еще дает о себе знать?
— Нет, слава Богу, никогда потом не ныло, ничего такого. Но именно из-за этого раздумдумленного[26] колена меня уволили со строевой службы. Я, понимаешь ли, всю кампанию прошел до самого последнего дня, когда мы вошли в Джокью[27]. И вот в этот последний день мне лапу и разнесло; меня и раньше, случалось, задевало, но я оставался на поле боя, только соглашался на перевязку — руку там или запястье; а вот из-за колена меня отозвали с передовой. Перевели на службу в военную тюрьму.
— Ну, наконец-то. В тыл.
— Ну да. Вот об этом я и думал тогда, на море, лежа в койке с рулевым, которому только что задвинул в зад, ощупывая и поглаживая его здоровенного темного петуха, лаская и возбуждая его… И при этом вспоминал, как мы обычно допрашивали в тюрьме парней, аборигенов, как правило, воришек-полукровок — стащит такой что-нибудь из армейской амуниции, а потом, разумеется, совершенно не помнит, куда запрятал. Ну забыл он, и все тут. Запамятовал ненароком, надо же такому случиться. «Ну ладно, сейчас мы тебе память освежим».
Мышонок задышал чаще.
— И вот привели как-то парня лет семнадцати-восемнадцати, — стройный, прямые темные волосы. Вполне даже смахивает на белого, только трусливее, и вороватый такой, блудливый. Трясется от страха. На нем всего лишь золотисто-коричневые бархатные брюки.
— Долго еще? Послушай. По части рассказов, Волк, тебе равных нет, правда. И все-таки хотелось бы знать, когда, ну хоть примерно…
— Скоро, скоро, зверь. Двое молодых солдат стянули с него золотисто-коричневые бархатные штаны, толкнули его бронзовое юношеское тело навзничь на деревянный стол, на спину, и связали ему руки и ноги под столешницей. И тогда я взял кожаную кисточку для бритья… Знаешь, что это такое?
— Нет. Расскажи.
— Как это — не знаешь? И даже приблизительно не представляешь? Да нет же, знаешь ты…
— Это такая плетка? Плеть для мальчиков?
— Ну да, Мышонок, только короткая. Очень, очень короткая и весьма безжалостная плеточка. Представь: рукоятка, а к ней прикреплено семь-восемь тонких, гибких кожаных полосок длиной даже не в две, а в полторы ладони. И вот этой кисточкой можно было гладить привязанного к столу, лежащего на спине юношу, долго-долго ласкать его наготу, его тайну, его юношественность; часами лелеять его вожделение; но можно было… в любой момент можно было обратить его похоть и наслаждение в обжигающую, пронзительную боль…
— И ты сделал это? Или сначала немножко погладил его?
— Да, сначала я только поглаживал его.
— Да, правильно.
— Он был довольно похож на этого рулевого. Потому я о нем и вспомнил. Тот же тип, только чуть моложе и, возможно, стройнее и гибче. С такой же внушительной штуковиной, разве что волосы потемнее.
«Ну и кому же ты этот мотоцикл загнал?» — спросил я, начиная поглаживать его; кончиками семи-восьми кожаных язычков ласкающей этой плети я провел вверх по его ногам; лишь самым кончикам плетки позволял я касаться его кожи, поднимаясь все выше и выше; приласкал его мошонку, его юношеский живот, пощекотал в пупке и вновь спустился вниз. Я словно очень осторожно раскрашивал или расписывал что-то: это называлось у нас «красить синим». Сперва я оглаживал плоть вокруг его штуковины, а потом… и ее саму. Всеми семью-восемью кожаными язычками я водил по его члену, так нежно, так тихонько… пока он не задрал голову, его петух, пусть даже сам парень этого не хотел — этого желали мы, солдаты и я: нам хотелось распалить его до крайности, перед тем, как дать ему почувствовать, что за пальчики в самом деле его ласкали…
— О… да… но теперь чуть помедленнее. Можно, я чуть подожду?
— А кто говорит, что нельзя? Для кого я тут болтаю? Можно быстрее, можно медленнее, как тебе захочется. Хорошо я рассказываю?
— В общем, да. Правда… э-э… когда…
— Ты хочешь только… когда бьют, или еще чего-нибудь? Кроме этого, я хочу сказать. Медку ложечку-другую?
— Да, еще чего-нибудь. Всего понемножку. Ну, ты знаешь. А теперь не тяни, Волк.
— Нет, больше тянуть не будем, Мышонок. Пока он все еще постанывал от вожделения, я занес над ним плеть-любохлестку, но не стал ее опускать. В комнату ввели здоровенного, распаленного похотью светловолосого парня, белого, он тоже у нас сидел — единственный белый во всей тюряге. Он прирезал какого-то местного, который пытался наложить свои обезьяньи лапы на его девчонку. Этот был наш всеобщий любимчик. Я ему как-то сказал: «Небось несладко тут, за решеткой, совсем без… А почему бы тебе не попробовать что-нибудь другое? Выбор тут хоть куда. Осмотрись». И мы стали подсовывать ему парней на пробу, и здорово ему это понравилось. Он и не думал, что это может быть так здорово, сказал он нам потом. После этого мы, само собой, отдавали нашему милому белокурому красавцу-громиле любого, кого он хотел. Приводили их в камеру, как две капли воды похожую на мою корабельную каюту, и он заваливал их на нары — в точности такие же, как на корабле, — любого мальчишку, на которого он только укажет. Он и на допросах нам нередко помогал, — мы тогда частенько позволяли его пыточной дубинке пошуровать в арестантских задницах. Это ему нравилось больше всего: именно во время допроса, когда мы с симпатягами-солдатами толпились поблизости. Мы все его просто обожали, правда, веришь ли? Ему очень нравилась, когда я тискал его зад, когда он… Я ему все время приговаривал: «Один кинжал у тебя отобрали, но другой-то у тебя при себе, а?» И его славный, крупный мальчишеский рот расплывался в белозубой улыбке. Мы всегда заботились о том, чтобы ему было хорошо. Я говорил ему: «Вот вынесут тебе приговор, я испрошу для тебя разрешения отсидеть срок здесь, и уж тогда мы позаботимся, чтобы у тебя всего было вдосталь». Лапочка! Мы все очень его любили, поскольку он прирезал эту безродную собаку, поскольку на нем… была кровь… И вот, значит, входит он и смотрит на парня, прикрученного к столу, и кивает нам — идет, мол. И начинает раздеваться, медленно, как некий жестокий принц. Я велел солдатам отвязать черномазого и швырнуть его нашему белокурому любимчику. Мы его скрутили, раздвинули его смуглые холмики и развернули задницей к его белому господину. И тот вошел в него. Сокровище наше. Стоя вошел. Боже, до чего он был хорош — эта его серебристо-светлая попка и мощные ноги. Он раздвинул туземцу колени, чтобы поясница опустилась пониже, так, чтобы можно было засадить поглубже и зад ему приподнять. Я подошел к нему сзади и стиснул его ходившие ходуном светлые ягодицы… да… Солдаты столпились вокруг туземца и удерживали его, чтобы не вывернулся и наш белокурый милашка мог пихать ему хоть до глотки. Дубины у солдат в форменных брюках уже стояли вовсю. Я протянул одному из них плетку-любохлестку, и тот внезапно врезал ей туземцу по его штуковине. Наш белый любимчик при этом чуть не кончил, белокурый зверь, и я тогда засунул руку между его красивых теплых светло-русых ягодиц и погладил его расщелину, чтобы он опять разохотился, когда… И он опять чуть не кончил, солнышко, а солдаты зажгли сигарету и, бросив плетку, припекли черномазого горящим кончиком, а наш блондин тем временем глубоко, свирепо, яростно…
— Да, да, да… они это сделали… отлично……
Золотистое тело Мышонка содрогнулось. Я, не в силах больше сдерживаться, терся своей волшебной лампой о его бедро. Речь моя перешла в смутный лепет.
— Он… почти что сплюнул, белокурый малыш. Я сказал ему, что… люблю его, Мышонок. Я со всей силы врезал черномазому по морде….