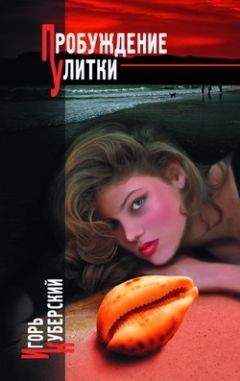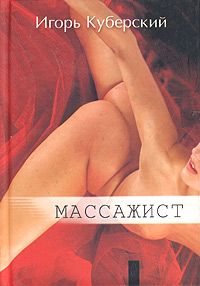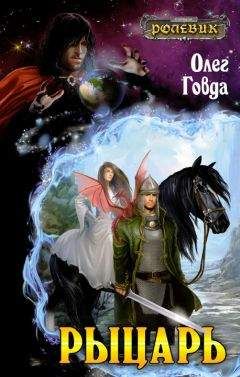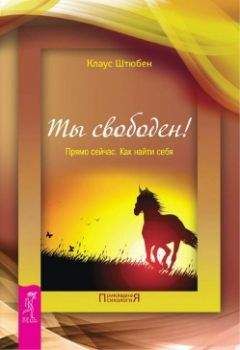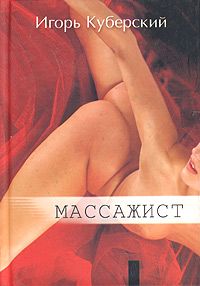– Я и не собираюсь, – хмыкнула Улитка. Она встала посреди кухни-мастерской – высокая, красивая, стройная, подбоченилась, раздула ноздри. – Вообще, что он себе позволяет?!
– Ну и дала бы ему этой книжкой по лысине...
– Ничего себе, дядечка... – она подсела к пианино, бойко побренчала свои чарльстоны, отодвинулась вместе со стулом, посмотрела в окно, на одну из своих не то наяд, не то дриад. – И все-таки мне его жалко. Он такой старый, печальный, он так смотрит... Меда поел, а у него диатез.
На следующий день – это было при мне – Илья Исаакович позвонил. Он осведомился, здесь ли я. Улитка сказала, что меня нет. Тогда он предложил встретиться, чтобы обмыть шампанским запевшее пианинное нутро. Он уже был готов выехать – с шампанским в портфеле.
– Сегодня я не могу, – сказала Улитка. – Я занята, – как если бы сожалела об этом.
И тогда Илья Исаакович заговорил. Он говорил долго и, наверное, вдохновенно, потому что Улитка, вопреки привычке, не перебивала, и, взглянув на нее, я с удивлением увидел, что все это ей безумно интересно. Наконец она сказала:
– Шампанское? Всего-то? Такой женщине, как я? Я думала, вы меня пригласите в ресторан...
«Он икнул, – рассказывала она, – а потом сказал, что подумает, и сразу стал прощаться».
Я почему-то рассердился:
– Тебе надо было сказать ему, что он старый козел. Зачем ты морочишь ему голову?
– Разве морочу? Может быть... Мне ужасно любопытно, как он себя будет вести. Если он оставляет мне какую-то порнографию, значит, он заслуживает такого обращения... Но если я скажу ему правду, он умрет. И я буду виновата перед его женой. По голосу она у него ревнивая. Грымза, наверно...
– Он не умрет, – сказал я.
– Да, – согласилась Улитка. – Но ему будет плохо. Пойми, мне жалко таких людей. У него впереди ничего, только смерть. А тут вдруг я, шикарная женщина. Женщина его мечты. Ему же сейчас тепло. Ну а постепенно он поймет, что ему тут ничего не светит...
Илья Исаакович не звонил неделю. «Зарабатывает на ресторан», – смеялась Улитка. А я не смеялся. Мне все это не нравилось. Мне впервые не нравилось то, что она делает. Прежде я всем восхищался, всему находил объяснение, все оправдывал. Она любит людей только умом, подумал я однажды, а сердце у нее холодное.
Присутствовал я и при следующем звонке Ильи Исааковича. На этот раз Илья Исаакович подготовился лучше, от ресторана не отказывался, то есть дал понять, что дело не в расходах, – волновала же его только его репутация, так как в городе он человек довольно известный и появление на людях с молодой красивой женщиной... «В общем, вы меня понимаете...» Но Улитка не захотела понимать:
– Можно подумать, что это я тащу его в ресторан. Он что, за проститутку меня принимает?
На сей раз никаких конкретных предложений от Ильи Исааковича не прозвучало. Напоследок он спросил, как играет инструмент. Прошло время, и вдруг Илья Исаакович снова прорезался, хотя Улитка надеялась, что он больше не позвонит.
– У вас есть подруга? – спросил он. – Мы тут на пару с одним старичком... Таким же, как я. Приезжайте в гости. Посидим, поболтаем, видики посмотрим...
Так и сказал: «видики».
– Знаете... – сказала Улитка. Интерес к этой истории в ней иссяк, и любезность ей давалась с трудом, – вы меня простите, но я не приеду... Да, я не хожу по чужим квартирам... Да, даже с подругой... И потом, – она тряхнула головой и посмотрела на своих наяд, – и потом представьте, как это будет выглядеть... ну хотя бы с эстетической точки зрения: вы и мы...
Много всякого я забыл, а это помню.
Новая Улиткина квартира обустраивалась долго. Еще месяц шастали сварщики, то привозя, то увозя сварочный аппарат да два огромных синих баллона со сжиженным газом.
– Они ничего не делают! – жаловалась Улитка хозяевам, а те уговаривали ее потерпеть и не ссориться, так как из междуквартирной борьбы сварщики извлекали свой интерес. – Пусть хоть ключи мне отдадут, – говорила она, – а то у меня тут коллекция, ценности...
– Представляешь, – рассказывала она мне, – в восемь утра звонок. А я закрылась на защелку, сплю, я же всю ночь рисовала. Я со сна ничего не соображаю, бегу к двери: «Кто?» А мужик за дверью: «Петрович пришел?» Я говорю: «Никакого Петровича, я тут живу». А Петрович – это его бригадир. Бегу спать. Снова звонок. И другой голос, Петровича: «Леха приходил?» Так они и ищут друг друга целое утро. Мне надоест бегать, я открою. И вот один из них сидит на кухне, ждет другого, а я лежу в комнате, заснуть не могу... Они же за месяц ничего не сделали, что же они зарабатывают?
– Что и все мы. Мы же получаем не за работу, а за то, что приходим. Вот они и приходят.
– Они приходят, чтобы выпить. А тут я. А на троих им жалко.
Но однажды позвонила праздничная:
– У меня радость. Плиту приварили. А знаешь, они оказались хорошие мужики. Я их тут чаем поила, с медом. Поиграла на пианино. Нормальные мужики, добрые, простые. Они чуть не раздавили мой коллекционный стул. Дима его на помойке нашел, а мне продал. Ой, в Ленинграде есть такие помойки, особенно если дом на ремонте. Мы с тобой должны как-нибудь походить... В общем, я им устроила концерт по заявкам, спела три свои песни. Им понравилось. А ключ они мне сами отдали. Я им: «Когда мне плиту поставите?» А они: «Сестренка, не волнуйся, это мы в секунд!» И знаешь, все приварили и увезли баллоны, шланги. Теперь у меня просторно, чисто, хорошо. Можешь приезжать.
Я придумал свой звонок – целую серию звонков в веселом ритме, и она открывала мне, не спрашивая кто, молча выглядывая из-за двери, сонная, теплая, беззащитная, в шерстяном пончо на голое тело, которое когда-то подарил ей безнадежно влюбленный в нее мексиканец из Университета дружбы народов.
Но встречались мы с ней и по вечерам, где-нибудь в центре промерзшего города, чтобы, миновав его заснеженные пространства, оказаться в тепле ее дома. Зимой Улитка почти не зарабатывала, заказов на реставрацию было мало, и Улитка проедала летние портретные заработки.
– Почему ты не хочешь учиться дальше? – спрашивал я, имея в виду институт Репина или Мухинку, где учились несколько выпускников ее училища.
– А... – отмахивалась она. – Потом. Но на живопись я все равно не пойду, ни на живопись, ни на графику. Ты не представляешь, какие там нагрузки. Всякое желание пропадет рисовать. Это же должно быть радостью, а не наказанием. И вообще это не для женщины. Я буду поступать на искусствоведческий. Хотя, честно говоря, мне это не очень нужно. Основа у меня есть. Остается только совершенствоваться. А там учат не искусству, а мастерству. Прививают школу, даже не прививают, а навязывают. Мне это неинтересно. Вообще, неинтересно все, что навязывают. А так я выбираю только то, что мне нужно. Сама.
Мы стояли возле трамвайной остановки на углу Марсова поля со стороны Садовой и Мойки; в проеме домов, за Кировским мостом и Петропавловской крепостью, холодным малиновым светом истаивал короткий зимний закат, и здесь между вычищенными аллеями и темными кустами сирени малиново отсвечивали поля нетронутого снега, в тени же снег был ультрамариновый; вокруг быстро темнело, и навстречу нам вдоль Лебяжьей канавки Летнего сада напористо мчался наш тринадцатый трамвай, полный жидкого апельсинового цвета, а также тепла от горячих электропечек под дерматиновыми сиденьями. И в трамвае продолжался наш странный разговор о любви, о любви как о чувстве, с которым каждый из нас, в общем, имел дело в прошлом.
Говорилось о том, что любовь – это сильнейшая форма зависимости, радостное рабство, счастье служить своему господину или госпоже, и такая любовь была бы убийственна, если бы не сопровождалась необыкновенным душевным подъемом, когда как бы заново рождаешься, и еще больше – только и находишь смысл своей жизни, пока твоя жизнь в чьих-то руках. Я привел Блока: «Ибо только влюбленный имеет право на звание человека», вспомнил Соловьева с его идеей преодоления в любви своего эгоизма ради себя подлинного... Говорил я, и говорила она, и получалось так, что я напирал на аполлоническое, то есть на гармонически-духовное, светлое начало в любви, а она – на дионисийское, чувственно-иррациональное, темное, хотя, насколько я мог судить, была человеком со спокойной, даже прохладной чувственностью. Эта ее тяга к невыразимому в любви, «несказанному», вполне в духе символистов, отмечал я. И еще я говорил, что чувство само по себе – вещь абсолютно разрушительная и нуждается в присутствии сильного укротителя, то бишь разума. В общем, чепуха на постном масле, когда возбуждение мысли происходит от манипуляций готовыми символами и понятиями.
Наверно, я заморочил ей голову, потому что она вдруг досадливо сказала:
– Напрасно ты меня не слушаешь. Я ведь как говорю, так и поступаю, – и какое-то предупреждение прозвучало в этом, так что я, подобравшись, попытался восстановить в памяти все, что она успела сказать в защиту своей точки зрения. Но только одна ее фраза приплыла из прошлых наших времен: «Мне нельзя влюбляться – от любви я погибну».