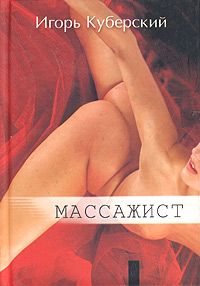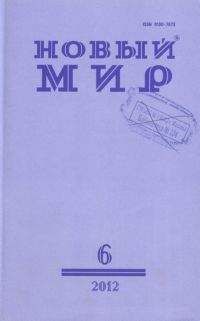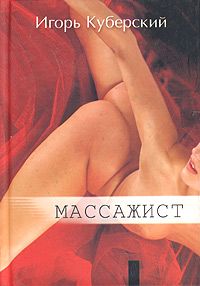Володька открыл мне сам, без моего звонка – ждал у дверей...
– Ну, все готово? – шепотом спросил я.
Он кивнул, прикрыв глаза, будто не в силах произнести и слова. Готовность же заключалась в том, чтобы было, во что Любу завернуть и перевязать веревкой. Володька, похоже, нервничал не меньше меня.
– Андрюх, может, зря мы все это затеяли? Ну лежит там и лежит... Нас это не колышет.
– Не смеши мои ботинки. Ты будешь первым на подозрении. Ты и твоя семья. Твой отец – может, на него первым и подумают. В предварилку посадят, замучают допросами. Тебе не жалко его? Знаешь, как у них! Не признаешься – измором возьмут, бить будут. Даже невинные себя оговаривают, лишь бы не пытали.
– Отец-то при чем?!
– А им все равно – при чем или нет. Они кого заподозрят, того и будут раскалывать.
– Отец был на работе, у него алиби, – сказал Володька, гордясь своим знанием иностранного слова, – мамка подтвердит. Они вместе...
– Прекрасно, – сказал я. – А у тебя есть алиби?
– На меня не подумают. Я еще маленький, – неуверенно хмыкнул Володька.
– Еще как подумают! – сказал я. – Им же надо на кого-то думать. У них ведь процент раскрываемости преступлений. Ради этого процента они на маму родную подумают.
Чем дольше я говорил, тем больше утверждался в своей правоте и логичности. Нет, я не мог допустить, чтобы цепочка дознания привела ко мне...
– Ну, есть, во что завернуть?
Володька кивнул в сторону. На стуле возле двери лежало покрывало, сшитое из лоскутков, непременный атрибут деревенского уюта.
– У мамки стырил, из чулана, – пояснил он.
– Она не будет искать?
– Это старое, она уже новое сшила. Ничего, поищет и забудет, – сказал он.
– Лопаты где? – спросил я.
– Внизу, за дверью.
Володька действительно сделал все, что я ему велел. Мы вышли в коридор и я, не снимая перчаток, которые специально надел по такому случаю, потянул за ручку Любиной двери. Дверь не подалась. Она была заперта.
Меня мгновенно пронизало холодом. Кто здесь был? Кто ее закрыл?
– Погоди, – нагнувшись, завозился у моих ног Володька. – Тут ключ под ковриком.
– Ты что ли закрыл? – переводя дыхание, спросил я.
– А то, – гордо сказал Володька. – Мамка ж к ней заходит. Хорошо, что они тут поссорились, не разговаривали. А то мамка заподозрила бы...
Так вот почему ничего не раскрылось до сих пор! Как же мне это не пришло в голову. Но почему Володька мне ничего не сказал? Его предприимчивость, не согласованная со мной, мне совсем не нравилась.
Ключ повернулся в замке, мы вошли и включили на кухне, где не было окна, свет.
– А в комнате опущена штора? – спросил я.
– Не боись... С улицы света не видно. Я проверял.
– Все равно лучше не включать, – сказал я. – На всякий случай. Если открыть дверь и так все видно.
Володька пожал плечами.
Я толкнул боком дверь и тихо, словно Люба могла меня услышать, вошел в комнату. Ее я не увидел – точнее, она была полностью накрыта простыней, обозначавшей только нос, груди и ступни. В комнате стоял трупный запах, не сильный, но явственный.
– Твоя работа? – спросил я, хотя мой вопрос не имел смысла.
– А что? – сказал он с вызовом. – Так покойников и держат. Я и глаза ей закрыл. А то ебу, а она смотрит.
– Ты ее еще ебал? – изумился я.
– А чо такого? Баба все-таки, хоть и мертвая. Только вчера не стал, уже подванивала маленько.
– Я же все вычистил, все улики... Теперь только тебя за яйца возьмут. Ты хоть понимаешь?
– Чо там понимать – все одно закопаем...
С логикой у Володьки были явные проблемы. Я ведь лишь вчера сказал ему, что надо избавиться от трупа. А до того... Володька был даже опасней мертвой Любы – просто идиот какой-то, извращенец, дурной, непредсказуемый... В тот миг я понял, что почти ничего не знаю про человеческую природу, и что все мои представления о добре и зле, о том, что хорошо и плохо, и о том, что можно и чего нельзя, подвергаются радикальному пересмотру. Но я, при всем моем изумлении, одновременно испытывал зависть или даже ревность. Не знаю, смог бы я вот так же, как Володька? Может, и смог бы. Просто жизнь потом больше не предоставила мне шанса попробовать.
Я проверил штору на окне – она, похоже, действительно не пропускала света. Мы расстелили возле тахты лоскутное покрывало, на которое собирались опустить Любу, но тут мне пришло в голову, что владельца лоскутного покрывала будет определить не так уж сложно. Володька со мной согласился. В конце концов мы решили завернуть Любу в простыню, на которой она лежала.
Труп ее оказался невероятно тяжелым – когда мы уже опускали тело на пол, углы простыни выскользнули у меня из руки, и голова Любы с тупым стуком ударилась об пол. Мы замерли – что если соседи снизу услышат... Но внизу было тихо. Мы завязали края простыни узлами – теперь из прорехи торчали только Любины груди. В эту прореху мы сунули ее сапоги, юбку, какую-то кофту, накрыв сверху синтетической курткой, снятой с вешалки, – эту куртку я видел на ней. Во внутренний карман куртки я положил ее паспорт, наручные часы. Я поискал ювелирные украшения – ведь если женщина уезжает из дому, она наверняка возьмет их с собой, но ничего не было – ни золота, ни серебра. Я с подозрением посмотрел на Володьку.
– Ну, взял, взял, – не выдержал он мой взгляд. – Это же деньги стоит. Реальные. А так менты придут и все возьмут. Знаю я.
– Где ты это держишь, дома?
– Нет, в надежном месте, – уклончиво отвечал Володька, будто опасаясь, что я потребую дележа.
– Смотри, на ерунде попадешься, – сказал я. – И меня потянешь.
– Не попадусь, – сказал Володька. – Пусть все отлежится. Потом продам. Много не дадут, но на велик хватит.
– Лучше верни. Помнишь – жадность фраера сгубила. Не я сказал.
– Какая жадность! Мне велик нужен. Год коплю, только двадцать рублей набрал. А на «Каму» нужно восемьдесят... Всего-то у нее кольцо обручальное и цепочка.
– Золотая? – спросил я, чувствуя, что мне жалко цепочки.
– Вроде того, – неохотно сказал он.
Чтобы из прорехи ничего не вывалилось, мы перевязали нашу тяжелую ношу бельевой веревкой и попробовали поднять. С трудом подняли и сразу опустили.
– Не донесем, – сказал Володька. – Что делать то?
– Ничего, волоком потащим, – сказал я.
– А по лестнице?
– И по лестнице, – сердито подтвердил я, представляя, с каким стуком будет отмечать каждую ступеньку Любина голова.
Дом этот имел два входа – один со стороны фасада для первого этажа, другой, Вовкин, – со стороны глухого торца. Тылом дом был обращен к старой грунтовой дороге, обычно почти пустой, вдоль которой военные недавно прокладывали кабель. Еще неделю назад кабель этот лежал на дне выложенной кирпичом отрытой канавы, глубиной метра полтора. Теперь она была засыпана, но земля не успела слежаться, и мы с Володькой рассчитывали легко отрыть могилу для Любы.
Эта канава была моей идеей. Во-первых, недалеко, во-вторых – никому не придет в голову там искать, тем более что военные обычно не возвращаются на старые места и штатских к своему имуществу не подпускают. В любом случае кабель лежит долго – лет двадцать, огромный срок. Кто будет искать убийц через двадцать лет? Я же был уверен, что в Кировске не задержусь – меня манил Питер, Васильевский остров, бабушка с дедушкой, с которыми я еще ни разу не виделся.
Заперев Любу, готовую для своего последнего пути, мы с Володькой крадучись спустились по скрипучей лестнице, взяли запасенные лопаты и, обогнув освещенный возле дома участок, пошли в темноте к дороге. Сразу за дорогой начиналась заболоченная низина, дальше – сопки, которые сейчас угадывались лишь по точкам света. Летом низина была вполне проходимой, там мы собирали клюкву и морошку, а на сопках было много грибов. Зимой мы там катались на лыжах.
Володькин дом светил в нашу сторону четырьмя окнами нижнего этажа и хотя нас наверняка не было видно, хотелось вжать голову в плечи и спрятаться. Однако тьма и так надежно укрывала нас, только в метрах ста ниже по дороге горела на телеграфном столбе одинокая лампочка, чудом уцелевшая, – все мы тут упражнялись в меткости, швыряя камни или стреляя из рогатки. Она слегка покачивалась от ветра, будто световой колокол во тьме, совпадая ритмом с ударами моего сердца.
Земля оказалась тяжелая, даже не земля, а глина, и ее комья не хотели сползать с лезвия лопаты. После глины пошел песок, а затем слой щебенки, и когда наконец мы добрались до кабеля, на часах уже было десять. Ясно, что дома мамаша устроит мне скандал, но об этом некогда было думать. Я промок насквозь от дождя и собственного пота – мне было жарко, а во рту сухо. Володька тяжело дышал рядом – ему было не лучше.
Бросив лопаты у канавы, мы вернулись домой. Люба лежала в своем свертке и терпеливо ждала, когда наконец мы предадим ее земле. Вряд ли ей нравился собственный запах. Ее душа находилась где-то рядом и, глядя на нас, укоризненно покачивала головой. Умершим, как и живым, надлежало соблюдать определенные правила.