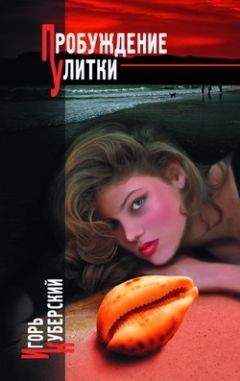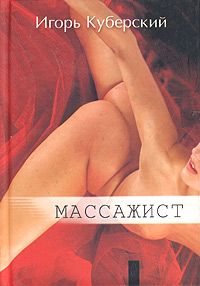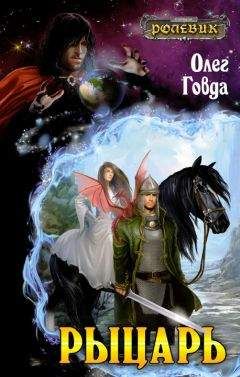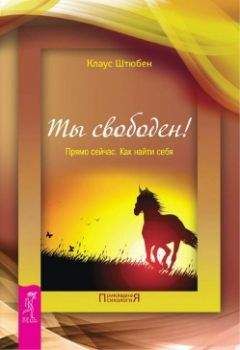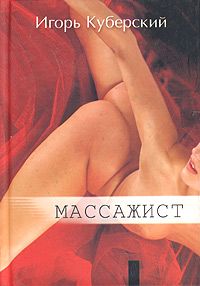Однажды днем я сидел у нее, когда он позвонил. «Вы чувствуете друг друга». Улитка отвечала уклончиво, стремясь поскорее свернуть разговор. Для этого был наработан прием – начать что-нибудь рассказывать. Пусть невпопад. Но ревнивец Бадри учуял постороннего.
– Да, не одна, – ответила Улитка, стараясь быть честной.
– У меня Игнат, – ответила Улитка, стараясь быть очень честной. – Сидим, пьем чай.
– Ну, перестань, – сказала она.
– Прошу тебя, перестань, – сказала она.
– Не надо. Пожалуйста, не надо, – сказала она. – Сколько можно говорить на эту тему...
И в этот момент раздался звонок в дверь – это, как обещал, заскочил на секунду Дима за своей штуковиной.
– Это Дима пришел, – сказала Улитка в трубку. – Ну что, теперь успокоился?
Ясно, что успокоился. Я бы так точно успокоился. Ведь я бы не знал, что Дима только сунется в дверь, поздоровается и тут же исчезнет, так как внизу ждет такси, а Дима не любит, чтобы денежки тикали зазря. Мы снова остались одни, даже чай не успел остыть, и ничто нам теперь не мешало заняться, скажем, любовью, ничто и никто – ни молодые ревнивцы, ни старые импотенты. Я торопливо глотнул чаю, словно на дорожку, на дальнюю дорожку, вздохнул поглубже и сказал, что мой час настал. Ухожу. Единственное, чем я могу ей помочь, это своим уходом. Впрочем, если будет во мне нужда, она может позвонить. «Мы остаемся приятелями», – сказал я. Если это ей нужно. «Я буду твоим прохладным приятелем», – сказал я, улыбаясь, чтобы губы не дрожали. Она тоже заулыбалась. «Прохладный», «прохладно» – ее любимые слова. Она любила состояние прохлады. В таком состоянии ей особенно хорошо работалось. Прохладно – это когда высоко и одиноко, это дух. А тепло – «мне тепло с тобой, ты меня согрел» – это слишком земно, телесно, это когда вдвоем, это плоть. «Я буду твоим прохладным приятелем», – сказал я и ушел. Как приятель. И даже поцеловал ее на прощание. И по ее глазам я понял, что она хоть слегка и опечалена, но отпускает меня. «Раз ты, Игнат, так решил... Я понимаю тебя, Игнат... Сейчас я не могу его бросить... Нет, я не люблю его... Я и так уже голову сломала, как быть... Все кончится тем, что появится кто-то третий... Нет, муж мне не нужен».
Когда я ехал домой, я подумал: теперь она его бросит, раз теперь ей ничто не мешает быть с ним.
Человек вроде привыкает к боли. На сей раз боль показалась несильной, может потому, что из средостения разлилась по всему телу, по всему городу, по всей Вселенной. Вселенская боль. Нет, это уж слишком. Глянув на меня, никто бы не поверил, что я несу вселенскую боль. Улитка не звонила, и в груди у меня стало закипать бешенство. Бешенство или ненависть, которую невозможно сдержать. Но когда я набрал Улиткин номер телефона и спросил что-то про жизнь, про дела, Улитка тут же сказала:
– Игнат, пока у тебя такой голос, я не могу с тобой говорить.
– У меня нормальный голос, – мгновенно превращаясь из волка в ягненка, кротко отвечал я. Но Улитку нельзя было обмануть.
– Что с тобой, Игнат? Ты сначала приди в себя.
– Я в себе, я только хотел сказать... – но я уже не мог выговорить то, что собирался. Какую-нибудь формулу обвинения. Или что-нибудь такое, чтобы она сказала: «Приезжай ко мне», а я бы ответил: «Я к тебе больше никогда не приеду».
Мне хотелось ее боли. Но она ускользала. Услышав мой безумный голос, она говорила:
– С таким тобой я не могу разговаривать, я кладу трубку. Прости, Игнат... – и я слышал гудки.
С месяц, весь почернев, я днем и ночью носил в себе свою ненависть, не зная, куда ее деть. По моим расчетам Улитка должна была уже бросить Бадри и понять наконец, что только я ее будущее, и, пока она этого не поняла, пока не хотела понимать, я ее ненавидел. Я вспоминал все, за что она заслуживала ненависти, и ненавидел. Она обманывала меня всегда, с самого начала. Никто ее не уводил, не принуждал – это все она сама. Этот Бадри возник чуть ли не на следующий день после моего отъезда на Север. Она несла тяжелый арбуз и он предложил помощь. Вместе они и съели тот арбуз. А потом она ему сказала: «Можешь остаться. Думаю, нам будет не слишком тесно». Так оно и было, Несси не придумала. Помимо меня Улитка была и с другими, у нее всегда кто-нибудь был, потому что у нее не было сердца, потому что у нее не было секса, а только спокойное холодное любопытство – как с теми лягушатами. И с Димой, конечно, она тоже была. А с этим осетровым авангардистом, про которого она сказала, что он «изящный самовлюбленный мальчик», она прокрутила роман чуть не на моих глазах. Какого рожна ей нужно?! А потом я ужасался своих мыслей и молился, чтобы Бог их не услышал и не передал ей.
И она наконец позвонила. Был поздний вечер. Матушка спала в своей комнате, и я, как всегда, отключил ее телефон – ведь Улитка могла позвонить и ночью.
– Игнат, здравствуй, – сказала она. Голос ее был спокоен, хотя и такой он обычно нес ее настроение. А тут он был без ничего, с ничем. – Игнат, у меня неприятность, – спокойно сказала она. – Большая неприятность.
– Что случилось? – Сердце мое упало и возликовало одновременно.
– Только что у меня был Дима. Пьяный в стельку. Он разбил все мои вазы, лучшие вазы из моей коллекции. Вся комната в стекле. Хорошо хоть, что котенка не раздавил.
– У тебя кот?
– Я взяла маленького дымчатого Генри. Бедный Генри едва ноги унес. Черт с ними, с вазами, главное, кот жив...
– Где Дима?
– Уже убежал.
– Мне приехать?
– Нет... Тут такой разор... Мы сами уберем. Лилька тут. Он ей чуть руку не сломал. А мне синяк поставил... Что ты молчишь?
– Я не молчу...
– Он позвонил по телефону, уже пьяный. И я с ним поругалась. Сказала, что он козел. Он же действительно козел. Жлоб и козел. Он наживается на мне. И вдруг звонок в дверь. Я никак не ожидала, что это он. Он ввалился и начал все громить. Мы с Лилькой не могли с ним справиться. Он был как сумасшедший. Все побил. Слава Богу, Генри жив... Приезжать не надо. Я не знаю, почему тебе позвонила. Просто так. Не знаю, что с ним произошло. Он никогда таким не был.
– До козла дошло, что он козел, – сказал я.
– Не знаю... Все... До свидания... Я потом тебе позвоню.
Она повесила трубку. А я понял, что произошло. Это моя ненависть случайно нашла Диму, наткнулась на него...
Протрезвев, Дима не на шутку перепугался. Наутро он стал звонить Улитке, просить прощения, но она была непреклонна. Она решила его не прощать. Она сказала, чтобы он возместил ей убытки, и на этом все кончено. Дима успокоился. Она не собиралась заявлять на него в милицию, натравливать на него своих друзей. Правда, взбешенный Бадри пригрозил отрезать Диме ухо – так, по крайней мере, она рассказывала мне по телефону, но до членовредительства, кажется, не дошло. Все-таки Дима был не тот человек, чтобы его наказывать. Он и так теперь наказан. Он обещал компенсировать причиненный ущерб – частично деньгами, частично предметами, всего на полторы тысячи рублей, как подсчитала Улитка. Но в ее глазах он теперь навсегда подонок и ничтожество. Настоящий коллекционер, ценитель прекрасного, не может поднять руку на красоту. То, что Дима разбил, уже не возродить. Это было, дошло до наших времен и теперь исчезло навсегда. Как бы в тепле, овевающем Улитку, оказалось несколько холодных зон. «У меня такая рваная аура, – жаловалась она мне. Это ей гуру сказал. – Нужно ее как-то восстанавливать».
Шло лето. С Улиткой я не встречался, только звонил иногда. Я сдал документы на поездку в Испанию и ждал, разрешат или нет. Я-то был уверен, что не разрешат, но времена менялись буквально на глазах, в интонациях власти стали проскакивать человеческие нотки, что-то обещалось, и обещанному хотелось верить. Как хотелось верить всегда. Буду умирать, вспомню день, когда я позвонил в ОВИР и мне сказали, что мне разрешено. О, это значило, что в моей анкете, в моей биографии нет больше пятна, по которому нечистых отличали от чистых. До сорока пяти лет все сжималось в моей груди, когда передо мной клали анкету. Какое счастье, думал я раньше, вписывать в графы о близких родственниках заветные слова «не был», «не имею», какое счастье не иметь судьбы. Сколько лет мне снились тюрьмы, камеры. Но еще чаще камер мне снилось, как ломятся ко мне в дом, в мою дверь, а я не пускаю, я пытаюсь не пустить. Сколько ночей этой отчаянной борьбы, сколько ужаса и унижения страхом... Стало быть, я действительно ощущал себя виноватым перед властью. Днем я совершал преступления мысли, а ночью меня ждало наказание страхом, самонаказание. Но иногда я говорил себе: с тобой все в порядке, тебя никто не арестовывал, не допрашивал, ты никому не нужен, это тебе снится пережитое отцом и матерью, это прапамять... Может, она-то и велит мне изжить страх перед закрытой дверью, за которой чудится шорох чьих-то шагов? Может, она велит не запираться больше на все замки, а смело распахнуть дверь – и окажется, что там никого и ничего, только солнце и ветер да загорелый трилистник плюща, скребущий по облупившейся краске... Так что же ты там хоронишься в углу, пора! Может, и вправду – пора?!