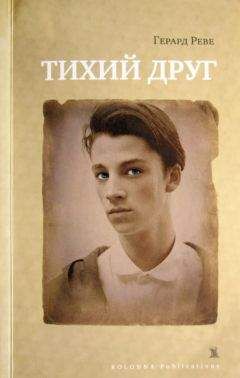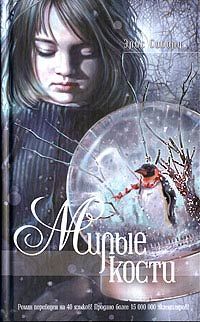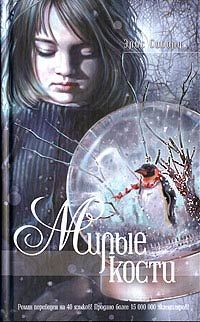— Ну, как там… Э-э… свершилось чудо?
— Да… свершилось…
— Быстро ты.
— Да. Здоровье — главное богатство. Ах, он — ничто иное, как трепещущее здоровье, дышащая красота, Фонсик, и сияющая юность, когда он стоит вот так перед машиной, Мышонок, рядом с тобой на ковре из сосновых игл, устилающих эту четырехугольную таинственную поляну. Он стоит все еще так близко к твоей огненно-красной спортивной машине, что заливает его сзади сиянием, словно он стоит в огненном море видения…
— Брр, ну и холодина. Фу, какую ужасную топь ты устроил в постели.
— Да. Полдела — не дело. Любить так уж любить. Вот что я тебе скажу. Можешь хоть в газете пропечатать.
— Ты любишь меня, Волк?
— Э-э… я… это… полагаю, что да, знаешь ли…
— Ну, давай дальше.
— Только теперь ты, наконец, разглядел, до чего Фонсик хорош собой. Он не только удивительно красив, он еще невероятно мил, ужасно мил. У тебя, Мышонок, при виде него просто слезы наворачиваются. Ты поглядываешь на него искоса, но не решаешься толком смотреть на него. Ты стоишь к нему лицом, и твой взгляд невольно задерживается на его бедрах, а затем… на межножье, там, где его юная пастушья свирель горной грядой вздыбливается под застегнутыми черными бархатными брюками, и внезапно слева на его штанине ты замечаешь овальное влажное пятно, где он в стремлении к наисладчайшему блаженству, к исполнению своего наивысшего желания, при свершении чуда, излил белую свою кровь…
— О, как хорошо, Волк… как ты красиво рассказываешь…
— Врешь, поди?
— Да нет, что ты. Мне в самом деле очень нравится. Очень, очень красиво.
— Он восхитительно хорош, Фонсик, и очень, очень мил. Но тебе он нравится гораздо больше — если это вообще возможно — когда ты замечаешь, как смущает его это влажное пятно на брюках, от которого ты не в силах отвести взгляда. Он опускает глаза. Тебе хочется что-то сказать, как-то действовать, но как? Фонсик делает несколько неловких шагов вперед, так что перед его брюк исчезает из твоего поля зрения, и теперь он стоит перед тобой, рядом с тобой. Что бы тебе хотелось сделать? В тебе пробуждаются неясные мысли, они постепенно захватывают тебя, а ты, лишившись дара речи, глядишь на юношеский изгиб его спины… У тебя тот же взгляд, какой я часто замечал у тебя прежде, когда ты смотрел на мальчишек возле школы, с их выгнутыми колесом спинами — они ведь не работают, Мышонок, они стоят и чешут языки с девицами, нагло регоча, и по твоему лицу я читаю, что ты думаешь, что ох заставил бы ты их расплатиться сзади тем, что они воображают получить спереди…
— Кейс…
— А? Что?
— Кейс… он… тоже… он тоже так стоял… спина у него… И смеялся так же, спиной ко мне, а сам с кем-то болтал… Я видел его со спины… Он… ну, давай дальше…
— Ты смотришь на Фонсика, на восхитительный, чарующий изгиб его спины, и вот твой взгляд спускается ниже, на два темных бархатистых холмика. Горло тебе перехватывает, и ты осмысливаешь что-то, неясное тебе самому, и мысль эта не отпускает тебя, хочешь ты того или нет. Тебе хочется… так или иначе… схватить Фонсика… вновь прижать к себе, но теперь для того, чтобы… Ты пытаешься отделаться от овладевших тобой фантазий, отмести их, и встряхиваешь головой… потому что не хочешь этого, хотя желаешь, всем своим существом, всепожирающей страстью к нему…
— Ну и чего же я такого хочу?
— Ты хочешь его… высечь, Мышонок. Высечь, прямо там… Ты хочешь бить его, пороть, мучить, стегать, так, как никогда не стегали и не мучали ни одного мальчишку, потому что никогда еще ни один мужчина не любил мальчика так, как ты теперь… любишь Фонсика… Тебе уже слышатся свистящие, задыхающиеся, рыдающие звуки ударов, которыми ты осыпаешь его золотисто-белое, обнаженное Юношеское тело, а он извивается и воет, прикованный к изукрашенной цветами брачной постели, целиком повторяющей форму его тела… Есть такое бичевание, столь беспощадное и столь продолжительное, столь безмерно длительная пытка во имя любви, что сумевший перенести ее и выжить навеки будет предан своему возлюбленному палачу… Тебе это известно, потому что втайне ты знаешь многое, ведь это дар одного подземного духа, коим ты одержим… Ты хочешь безостановочно хлестать его ремнем для мальчиков, таким темно-красным ремнем, оставляющим при каждом ударе мерцающую кровавую полосу, что искрами переливается на его светлой, бархатистой, замшевой коже, пока, запекшись, не потемнеет… Он всхлипывает, рыдает, содрогается, покуда все его юношеское тело не покрывается кровью и пронзительные, острые вскрики не переходят в хрип и прерывистые вздохи, и затем в молчание, и, хотя он все еще вздрагивает при каждом посвисте бича, не исторгает более ни звука, впав в беспамятство, и умрет, если ты не перестанешь хлестать его… Но ты, ты уже просто не можешь остановиться, Мышонок… Ты тоже обливаешься слезами, всхлипываешь, с каждым ударом… Ты знаешь, что он умрет, если ты продолжишь терзать его, но знаешь и то, что прекратить этого ты не в силах… И вот Фонсик умолк, и теперь хрипишь, воешь и стонешь ты, и твои вопли — словно глухая, исполненная мольбы жалоба, слезы безвинно мучимого щенка… И ты хлещешь и хлещешь, судорожно втягивая в себя воздух, и вот безжалостная кожаная лента готова в сто сорок седьмой раз со свистом пасть на его беззащитные юношеские плечи… как вдруг некая невидимая длань перехватывает твою руку и, сотрясаемая дрожью, удерживает ее. Фонсик еще жив… и будет жить, для тебя… и на всю жизнь теперь он будет твой, и даже в смерти не разлучит вас Господь… как говорится…
— Я и впрямь его исхлещу? Фонсика?
— Ты оглядываешься по сторонам, Мышонок, готовый сорваться с места и вновь схватить его в объятия и тогда… тогда… Но он оборачивается и смотрит на тебя. И вновь тебе сжимает горло, и словно шумным, хлестким порывом ветра запирает тебе в груди дыхание… Он стоит там, Фонсик, это все, что ты знаешь… И хотя машина принадлежит тебе и вы так далеко углубились в лес, что самому ему оттуда ни за что в жизни не выбраться — несмотря на все это, ты опасаешься, что он… захочет уйти… уйдет… Ты хочешь сказать, хоть что-нибудь, вроде: «Ведь ты же… ты не уйдешь… Фонс?» Но, разумеется, не говоришь. С языка твоего рвется сумбур, путаница бессмысленных звуков. «А славно тут, в лесу, да?» — можешь ты сказать, к примеру. Или: «Здорово, что ты здесь». И ты чуть не произносишь: «Какой ты красивый, Фонс…» — но спохватываешься и не говоришь этого, и немедленно начинаешь сожалеть, что не сказал, что не достало тебе духу, и вот ты уже совсем перестаешь соображать, что говоришь, и несешь что попало. Ты говоришь: «Хорошо здесь, правда?» Тогда как ничего тут хорошего нет. Я хочу сказать, ты ляпнул такую глупость, что тебе становится неловко… Можно было бы придумать что-нибудь этакое, а ты плетешь всякий вздор. Но есть, однако, некое очарование в твоей манере произносить лишенные смысла слова, так что кажется, что они все же что-то значат… потому что при звуках твоего голоса Фонсик расцветает улыбкой. И кивает, и его светлая пушистая челка чуть вздрагивает, и на миг ее тень мягко падает ему на веки и вновь исчезает. Он кивает и снова делает несколько шагов влево, к краю поляны, где стоит камень, эта четырехгранная усеченная колонна или же невысокий обелиск, и ощупывает обращенную к нему сторону, где, похоже, проступают остатки текста, некогда вырезанного или же высеченного в этом глубоко изъеденном временем камне. Текст занимал всю его поверхность, сверху донизу, поскольку сквозь щербины проглядывает рисунок из горизонтальных линий. Действуя рукой и ногой, Фонсик отскребает поверхность камня, и зеленовато-серая, сухая, намертво сцепившаяся со мхом каменная шкура крошится на землю. Ты подходишь ближе, Мышонок, и глядишь на него, на дивные, завораживающие движения его светлой юной руки и обутой в баскетбольную туфлю светлой юношеской ноги. Теперь он не должен уходить… нет, больше никогда… Но как ты сможешь воспрепятствовать тому, что он станет великим скрипачом или прославленным футболистом: юный гений-универсал, «юноша с золотыми руками и ногами», как будет именовать его благожелательная пресса… Слава Богу, у тебя есть знакомый врач, юный красавец-хирург — столь же, как и ты, страстно влюбленный в Фонсика — с которым у тебя вечное соглашение, так что Фонсик усыплен и похищен, а очнувшись, обнаруживает, что у него отняты левая кисть и левая нога ниже колена — в высшей степени аккуратно, так что его осиротевшие левые запястье и лодыжка оканчиваются двугорбыми костяными холмиками, как на табличке «не влезай — убьет», или на этикетке от яда, так что, заключая друг друга в объятья на ложе вашей безграничной, бесконечной, чудовищной любови, ты нащупываешь и трогаешь эти холмики на месте бывшей кисти, и другие два, там, где была ступня, и можешь ласкать их ладонью, прижиматься ногой, ощущая истину его дважды-два-четыре маленьких всхолмлений, отчего оба его крутых холма навсегда будут принадлежать тебе, а не бескровной концертной публике или всегда готовому крушить и метать быдлу спортивного стадиона… Ты созерцаешь светлые бугорки запястий его покрытых серебристым юношеским пухом обеих — еще целых — рук, выступающих из рукавов тонкого белого свитерка, и разглядываешь костные выпуклости на внутренней стороне его щиколоток, защищенных резиновыми кружочками поверх холстины баскетбольных туфель, в которых ерзают обе ноги, все еще его собственность… Расскажешь ты ему потом, что это ты, не кто иной, как сам ты, велел свершить над ним это двойное изуверство… расскажешь ему?.. Фонсик царапает и скребет ногтями и жестковатой подошвой своей холщовой туфли по поверхности каменной колонны. Все больше выцветшей каменной крошки и мха сыплется с камня на землю… Он расчистил верхнюю половину и почти отскреб нижнюю, и справа, и слева, но буквы, цифры, сам текст, по-видимому, больше не разобрать. В центре шероховатая корка приросла намертво, и Фонсик подбирает плоский камешек, чтобы использовать его как скребок. Линии теперь видны отчетливей: проступают края, некогда образовывавшие строку, но больше их нет, нигде… Теперь он отскабливает посредине последний кусок шелушащейся шкуры и вдруг испускает сдавленный крик: буква, одна-единственная буква, заглавная. «Смотри, — говорит он, — это „М“. Видишь? Это „М“»!