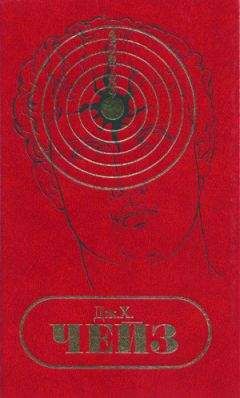– Петьа, – постучала ко мне в дверь Патриция, неуверенно встала на пороге моего мужского одиночества, просияла, даря хорошую новость:
– Петьа, Рон хочет провести с тобой день. Ты ему очень понравился. Он хочет говорить с тобой. Потом повезет тебя пообедать в какой-нибудь ресторан. Заодно посмотришь Лос-Анджелос – Рон живет в хорошем районе...
Идея, что мы будем вместе, почему-то греет ее. Вдруг он пригласит меня пожить у него с полным пансионом.
Всех, кто проявляет ко мне интерес, я теперь оценивал по их машинам. Как тут ни крути, рассчитывать на удачу можно было лишь рядом с благополучием. Машина у Рона была, конечно, не такой, как у Патриции и даже Кэррол. Круче. Правда, у нее было побито заднее левое крыло. Но Рон сам его выправил, сам загрунтовал пастой, отшлифовал – оставалось только покрасить. В мастерской ремонт обошелся бы ему в долларов триста, а так – не больше пятидесяти. Дорожный инцидент? Да нет, кто-то вез ящики на тележке – они и посыпались на его «форд». Наверное, это было очень смешное зрелище, потому что Рон засмеялся. Он смотрел на меня живым заинтересованным взглядом, будто я вот-вот выкину что-то особенное.
С Роном мы побывали в его любимом музее американских индейцев. Видимо, он чувствовал себя их братом – резервация напоминала ему о колючей проволоке детства. Музей был расположен на высоком холме, откуда открывался вид на Лос-Анджелос, похожий отсюда на расползшийся по сковородке пупырчатый блин. Музей утверждал сравнительно новую для Штатов концепцию отечественной истории, где индейцы больше не были кровожадными дикими убийцами, сопротивлявшимися цивилизации белых, а даже наоборот – оказывались носителями высокой культуры, морали и религии.
После музея мы покатили в город, вернее, куда-то в район Лонг-Бич, с аккуратными улочками, полными магазинов и ресторанов.
– Я часто приезжаю сюда перекусить, – сказал Рон. – Ты не проголодался?– спросил он меня. – Если да, то мы зайдем в ресторан.
Глотая слюну, я сказал, что оставляю это на его усмотрение.
– Тогда еще покатаемся, – сказал Рон, – пока светло, – и нетерпеливо поерзал в кресле. Казалось, что он ждет от ближайшего часа какого-то приключения, которое вполне может случиться с двумя холостяками. Но для этого, насколько я понимал, надо бы вылезти из машины и вступить в контакт с окружающей публикой. Однако вылезать Рон не хотел – похоже, опасался, что это ввергнет его в непредвиденные расходы. Он и так уже шарахнул на меня десять долларов за билет в музей. То слева, то справа возникал пустой неспокойный океан, пустые зимние пляжи, где еще недавно кипело празднество жизни. Неснятые полосатые тенты трепетали на ветру, жизнь переместилась от воды под навесы, крыши, за стеклянные витрины. Тепло, но не греет, светло, но не видно, или видно, только не мне, потому что все это пока мимо и не про мою честь. Куда же, куда же ты правишь, Рон? Что ты так настойчиво высматриваешь за лобовым стеклом, может быть, розовый лобок юной блондинки ценой в пятьдесят долларов?
– Была у меня девочка, блондинка, – как на сеансе телепатии говорит вдруг Рон, кивнув на кокетливый ресторанчик, стоящий на отшибе посреди пустыря – ни людей, ни машин... – Ходили сюда. Ты любишь блондинок или брюнеток?
– Я люблю их не за это, – отвечаю я.
Рон долго и заразительно смеется, азартно блестя в мою сторону понимающими глазами. Но радовался он не абстрактно, а конкретно. Похоже, я ответил на мучивший его вопрос, – он понял, что с Патрицией я не сплю.
Стремительно вечерело, и когда мы остановились на берегу океана в районе набережной Белмонт, с неба уже перетек за край горизонта последний свет. Зажглись искусственные огни. С наступлением ночи Лос-Анджелос, говорила Патриция, переходит в руки бездомных, но на набережной их не было видно. Одинокие парочки бродили тут и там, сидели на скамейках или под кустом.
– Прекрасный вечер, джентльмены! – пророкотал тучный негр на роликах, послав нам улыбку из растворивших его сумерек. Похоже, принял нас за голубых.
С океана дул холодный ветер, и из тьмы к едва подсвеченному огнями города пляжу выкатывали длинные белые полосы волн. Мы перешли мост и ступили на пирс. Здесь роилась тихая вечерняя жизнь – из недорогих забегаловок веяло на нас недорогой же, но вкусной едой.
– Ты хочешь есть, Питэр?
– Как ты.
– Я пока нет.
Значит, наш вечер, закончится не здесь, а в настоящем ресторане – видимо, Рон добирал для аппетита впечатления и усталость. Поодаль на пляже вздувался огромный купол из брезента на опорах. Оттуда доносилась музыка – цирк... Может быть, даже наш, российский. Мы – признанные трюкачи, наша жизнь – сплошной цирк. Хорошо бы зайти – может, им нужен еще один униформист, конформист, гетероморфист?
По пирсу бродили охочие до экзотики иностранные туристы вперемежку с бомжами. Последние выглядели страшновато, но никто ни к кому не приставал. Уличный музыкант играл на обрезках труб, подвешенных к перекладине. На профессиональном языке – колокола. Каково таскать на себе всю эту сантехнику... Звук у трубок был холодный, металлический, похожий на этот ветер.
В предвкушении ресторанного обеда-ужина я пересек в машине Рона весь Лос-Анджелос в обратном направлении, затем мы докатили до Южной Пасадены и почему-то оказались возле нашего дома.
– Лучше поедим у Патриции, Питэр! – подмигнул мне Рон.
У нее мы и пообедали, то есть поужинали, – скромными остатками того, что обнаружилось в холодильнике после молчаливых Тришиных поисков.
Я понимаю, что значит быть бедным. Это испытывать обиду. Думать, что тебя обделили, что кто-то тебе что-то недодал.
* * *
– Да, забыла сказать, тебе вчера звонила Стефани, – сообщила мне Патриция за утренним кофе.
– Какая Стефани?
– Не знаю. Я думала, ты знаешь. Звонила, сказала, что хочет пригласить тебя на обед. Она англичанка. Видимо, ей интересно поговорить с русским...
– А откуда она взяла мой телефон? – спросил я, больше не веря в бесплатные обеды.
Патриция пожала плечами и, открыв холодильник, достала для своих котов мою ветчину. Мою, потому что она ее не ела, а у котов ведь была и кошачья еда. Похоже, Патриция была озадачена звонком гораздо меньше меня. Что за Стефани? Зачем я ей? Ну, конечно, слух обо мне уже прошел по всей Палм-стрит великой. Русский на Палм-стрит. Дети, родители, друзья родителей, друзья родительских друзей...
Коты гибко ошивались возле бледных веснушчатых ног Патриции в приятном возбуждении – заодно оглаживаясь и о мои ноги, словно чувствуя, что просто так, на халяву, у меня ничего не допросишься. Прибежала соседская дворовая собачка по прозвищу Тайни, то есть Малютка, серенькая помесь болонки с терьером, ушки торчком, и как бы старомодно одетая. Когда резали ветчину, она, где бы ни бегала, всегда оказывалась тут как тут – будто между нею и ветчиной был секретный канал связи. Коты не обращали на нее внимания.
– Тайни?! Ты опять здесь!– говорила Патриция, выделяя горстку ветчинных кубиков и для нее. Впрочем, иногда в ее подносящей руке я прочитывал сомнение: что это, в самом деле, хозяева не кормят? Тайни была вполне благополучной собачкой. Другое дело – забитый, вздрагивающий, ежесекундно готовый к паническому бегству котик Даниэль, несчастное альбиносное существо, живущее через дорогу у мексиканца, уборщика улицы. Этого мексиканца Патриция ненавидела, потому что тот ненавидел животных. Когда он мел улицу, все, кто вел в окрестностях четвероногую жизнь, старались не высовываться. Однажды Патриция собственными глазами видела, как он огрел метлой бедного Даниэля. «Мне хотелось вырвать у него из рук эту метлу и самого его бить, бить, пока он не побежит на четвереньках». Мелкие жиденькие кудерки Патриции распрямились, ощетинились, и в глазах ее горел темный огонь мщения за всех униженных и оскорбленных. Точно с таким же видом она говорила накануне вечером нам с Роном об этих сволочах белых американцах, загубивших чудесных, чистых и невинных, как дети, индейцев.
Коты Патриции были терпимы и к Даниэлю, и вздрагивающий озирающийся Даниэль под ласковые поощрительные призывы Патриши взлетал на холодильник, тронное место Мацушимы, и торопливо припадал к лакомству, из-за расшалившихся нервов едва ли ощущая его вкус.
Тайни понимала, что я иностранец, и не делала попыток переступить разделявшую нас черту. Я ел, а она, американка, просто стояла и наблюдала, не теряя при этом достоинства. В конце концов я не выдерживал и делился с ней. Однажды я все-таки одержал верх в этом психологическом поединке и ничего ей не дал. Тайни постояла в тишине, а потом повернулась и потрусила во двор, маленькая, независимая, в своей старомодной шубке и старомодной шляпке.
Каждый день радио приглашает меня в Лас-Вегас – всего тридцать долларов на автобусе и ты богат. Я задумываюсь – а почему бы нет. У меня осталось всего двести пятьдесят долларов.... Пятьдесят я шарахнул на теннисную ракетку. Реклама в газете гласила, что только сегодня втрое дешевле. Патриция подтвердила, что так бывает, и свозила меня в магазин. Она радовалась, что я сделал хороший бизнес. Говорила, что теперь я приобрету на корте новых хороших друзей. Это и есть моя цель.