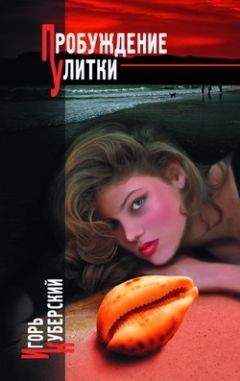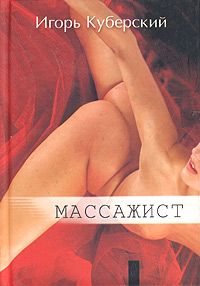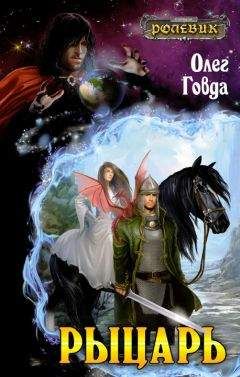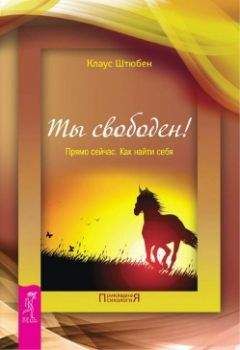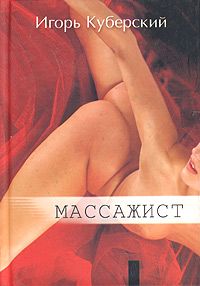...Все там было настоящее. В званые вечера гости сидели на петровских стульях, и долгий весенний свет стоял не в окне, а во вправленном в раму окна флорентийском витраже. Да, по отечественным меркам Дима был богат, но оставался несчастен. Для несчастья было несколько причин, и одна из них – та же коллекция, предмет его гордости, знак его статуса. Коллекция была смыслом и целью его жизни, но, как всякая материальная цель, она, будучи достигнутой, вдруг как бы перестала греть. Вдруг обнаружилось, что мечты больше нет, а вместо былой сладкой дрожи собирания осталась только привычка менять одно на другое, хорошее на лучшее; обмен, конечно, увеличивал сумму на сберкнижках и доход с суммы, на что Дима и жил, как рантье, но для человека искусства, каковым Дима давно себя считал, этого, конечно, было мало. Времени же и сил, чтобы приподнять еще какой-нибудь золотоносный пласт прошлого, уже не оставалось. И все реже и реже Дима бывал трезвым.
Видимо, богатство пришло все-таки слишком поздно и никоим образом не повлияло на фантастическую Димину скупость, оправданную разве что нищим голодным студенчеством и блокадным детством, – в быту он по-прежнему побирался, в компании в минуту платежа никогда не вынимал кошелек и предпочитал залезть в долги, чем в сберкнижку. Долги он, правда, отдавал.
Для выгодной перепродажи или обмена он пользовался разными приемами: ну, скажем, он ставил вещь, которую собирался сплавить, в свой интерьер и приглашал покупателя. В Димином интерьере любая вещь играла. Или же – приобретенное по дешевке он отдавал на реставрацию. Главным его реставратором была Улитка. Она работала или за спасибо, точнее, за право быть в Димином кругу, или за крохи с барского Диминого стола. Но и у нее была своя корысть – научиться у Димы тайнам профессии. Она прекрасно понимала, что Дима на ней наживается, но мирилась с этим, терпеливо ожидая, когда придет ее собственный час. И все-таки приходилось держать с ним ухо востро, так как у Димы всегда была тысяча способов ее надуть. Скажем, когда Улитка уже заканчивала реставрацию очередной вещицы, он звонил ей и провоцировал ссору, ожидая, пока Улитка не крикнет в сердцах: «Дима, забирай свое барахло! Не хочу тебя больше знать!» Он тут же прикатывал и забирал свое – оскорбленно и... бесплатно, а затем, через неделю, зная отходчивость Улитки, звонил с очередной приманкой. Иногда эти сцены происходили на моих глазах.
– Да я все понимаю! – останавливала меня Улитка, когда я пытался вразумить ее. – Дима жлоб и жлобом умрет. И мне жалко, что он такой жлоб. Он, конечно, страдает от жадности, но еще больше он страдает, что я не такая, как он. Он был бы счастлив узнать, что я его тоже надула. В глубине души он считает себя лучше всех. Но я ему все прощаю, потому что он талантлив, он считается одним из самых талантливых ленинградских коллекционеров.
Я не очень понимал, что в данном случае вкладывалось в понятие «талант», – не способность же делать деньги буквально из ничего, из содержимого ленинградских помоек. Нет и нет. Ведь получалось, что он, Дима, возвращает этому содержимому прежнее, давно изжитое жизнью значение, соединяет это изжитое в цепочку, которой огораживает лоскуток пространства, где будто сами собой вдруг начинали оживать тени давно минувшего...
В университетской лаборатории Дима, естественно, только числился. За него его обязанности исполнял кто-то другой, Дима же проводил свободное от коллекционирования время в барах. Начинал он с плавучего «Паруса» возле Петропавловки, потому что жил неподалеку, затем троллейбус переносил его на Невский, где Дима спускался в бар Дома журналиста, а затем поднимался в буфет ВТО, каждое из этих мест отмечая двумя-тремя порциями коньяка, так что к «Сайгону» он уже подходил в приподнятом состоянии, где и «снимал» время от времени девочек; в его вкусе были пятнадцатилетние, и он хвастался перед Улиткой и этой своей коллекцией.
– Ему не нужны девочки, – смеялась Улитка, – он импотент.
У нее была мечта – говорящий попугай. «Когда ты поедешь за границу, обязательно привези мне». Но ждать было долго, поэтому она заявила, что хочет не попугая, а лемура, и тут же нарисовала его, благо художница. Затем идея слишком уж «гуманоидного» лемура сменилась мечтой о лисенке, которого она сама воспитает, и я, втайне не разделяя ее желания иметь друга, кроме меня, мрачно сказал:
– Его растерзают собаки.
– Почему? Я буду держать его в квартире, а прогуливать на поводке.
– Все равно растерзают – ты даже не успеешь оглянуться. Зачем его мучить? Лис должен жить в лесу. Заведи лучше собаку.
– Собаки – они слишком преданные, они рабы. Они зависят от человека, а лиса независимая, – и моя подружка тут же нарисовала независимую лису. Лиса была женского рода, чтобы я не ревновал.
– Кошки тоже независимые, – сказал я, но она только покачала головой. И вдруг, вся просияв, заявила: – Я придумала! Мне нужно просто купить три чучела: попугая, лисы и лемура. Ты не знаешь, где их можно купить?
Но и тут я остался верен себе и пробурчал:
– Зачем? Одно чучело у тебя уже есть.
Идея иметь при себе постоянное, верное, но безответное существо, на роль которого не годились ни я, ни ее деловые приятели-коллекционеры, ни часто меняющиеся подружки, однажды воплотилась в лягушачьей парочке. Я пришел как раз, когда Улитка готовила жилье для своих новых холоднокровных друзей. Жилье представляло собой огромный горшок из толстого прозрачного зеленоватого стекла, внутри горшка стояла наполненная водой одна из Улиткиных самодельных вазочек в стиле модерн, выкрашенная ярко-зеленой нитрокраской; возле вазочки, видимо для интерьера, Улитка положила огурец, разрезанный вдоль. Огурец был молодой и пупырчатый и походил на дальнего родственника новоселов.
– Только я пока не могу брать их в руки, – пожаловалась она. – Помоги мне. Осторожней! Они ужасно прыгают. Самец у меня уже выпрыгнул на сковородку, хорошо, что я ничего не готовила.
Я перенес холодных противных лягушек из пол-литровой банки в стеклянный горшок, и Улитка торопливо накрыла его альбомом Тинторетто. Она хотела накрыть куском оконного стекла, чтобы все видеть, но я боялся, что она обязательно поранится по близорукости, и настоял на безопасной крышке.
– Ладно, – уступила она, что бывало редко. – Пусть приобщаются к искусству.
Я уже не спрашивал, зачем вся эта затея, и не призывал к ответственности за земноводных. Я не был уверен, что мы несем моральную ответственность за тех, кого нельзя приручить. К тому же Улитка объяснила, что взяла их по протекции Димы из университетской лаборатории, где над ними проводят всякие мерзкие опыты и где лаборанты в обед готовят себе на спиртовках жаркое из лягушачьих лапок.
На следующий день она мне пожаловалась:
– Он ее не отпускает. Он сидит на ней и не отпускает. Я хочу его снять, а он сердится и пихается задними лапами.
– Не мешай, – сказал я. – У них любовь. Он ее любит.
– Разве так любят?! Он чуть не задушил ее, бедную. Он же ничего не делает, он просто сидит на ней и никого не подпускает. Собственник... Она красивая, она мне нравится. А он черный, противный.
– Только не мешай им, – сказал я с неопределенной верой в природный разум. – Он ее отпустит, когда нужно.
Но и еще через день самец продолжал упорно держать подругу в своих объятиях.
– Если ты не приедешь и не поможешь, – захныкала Улитка, – она умрет. Она уже совсем высохла. Он же не дает ей принять ванну. И накормить их надо...
Я приехал, глянул за стекло – и в самом деле самочка, более светлой расцветки, чем самец, с миндалевидным разрезом глаз, выглядела странно: кожица ее сморщилась, а пупырышки ссохлись в крупинки соли. Она часто дышала.
– Вот видишь, – сказала Улитка. – Я бы сама взяла, но я пока не могу их брать в руки. Ты меня должен научить.
– Ладно, – сказал я, будто всю жизнь только и делал, что ухаживал за лягушками, и, сняв Тинторетто, решительно взял самца за холодную мерзкую спину. Он тут же вякнул и лягнулся. Передние его лапки плотно обнимали самку под мышками.
– Он не хочет ее отпускать... – проныла Улитка. – Если бы я знала, я взяла бы только ее. Она такая красивая, тихая, умная. А он урод.
– Сейчас отпустит, – сказал я, начиная сердиться на сексуального урода.
Самец снова недовольно квакнул, а скорее хрюкнул – звук был странен в солнечной Улиткиной комнате – и задние лягушачьи лапки поочередно торкнулись мне в ладонь. Я ухватил за одну из них и потянул из горшка. Я думал, что он тут же отпустит свою милую, но он продолжал мертвой хваткой держать ее, так что для надежности мне пришлось ухватить и вторую его лапку.
– Ой, как смешно! – закричала Улитка.
И в самом деле, было смешно, а может, страшно. Лягушки висели в воздухе – одна вверх, другая вниз ногами, сцепленные объятием, и походили на людей в минуту крайней, смертельной опасности. Казалось, самочке уже было все равно, настолько она устала и потеряла интерес к жизни за минувшие два дня неподвижности, но самец, хотя теперь он молчал, понимая, что криком делу не поможешь, продолжал держать свою подругу так, будто иначе мир должен был рухнуть.