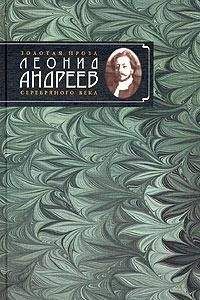Родители мои тактично не замечали ни моих поздних возвращений, ни распухших губ, и в последний день своего прибывания он по всей форме обратился к ним с просьбой «о руке их дочери». Правда, меня чуть-чуть кольнуло тогда, что передо мною-то он этот вопрос формально перед тем не поставил. «Люблю! Поражен тобою навеки!» — это, конечно, хорошо, но все же надо было бы моим согласием заручиться. Ну, да простила, видела, что он не в себе. Однако голова моя тогда кружилась, все мои моральные комплексы были удовлетворены, а заодно и честолюбие: вот ведь, так долго — до двадцати трех лет — ждала и дождалась своего суженого, за первого встречного-поперечного не выскочила, а вот какого умного, красивого, сильного мужчину залучила на всю оставшуюся жизнь. Что скажете, подружки-торопыжки? Опять Настька золотую медаль получила!
Что было дальше? В апреле мы всем семейством съездили к ним в Москву, представлялись родителям. До того были его бесконечные звонки, письма, из которых можно было бы создать романтический письмовник, телеграммы, подарки и т. д. Короче, я стала официальной невестой. Отцу и матери его я очень даже приглянулась, их сиятельство папаша аж крякнули при встрече на перроне и сообщили, что теперь-то он Ипполита уразумел полностью да эх, скостить бы ему самому годков двадцать пять-тридцать, так он бы…
— Молчи старый хрыч! — толкнула его в бок жена и очень милостиво меня поцеловала. Вот это был запах, вот это было облако ароматов, в которое я погрузилась!..
Отвезли нас к себе в огромном «ЗиЛе», вышколенный шофер открыл передо мной дверцу. Мы жили в огромной «сталинской» квартире в высотном доме на площади Восстания. Ипполит млел, изнывал и не находил себе места от желания, несколько раз пытался пробраться ко мне ночью, но дело это было со всех точек зрения нереальное. Зато в коридоре он обнимал меня очень жарко и прижимался к моей юбке своими брюками с очень даже твердым предметом внутри них.
За торжественным обедом высокие договаривающиеся стороны в виде родителей (мой простоватый батя как-то окаменел в этом хрустально-ковровом раю среди полированной мебели, он даже не сразу разговорился) пришли к общему мнению, что регистрацию брака надо провести до распределения в вузах молодых, чтобы дипломы были с общей фамилией и жена получила бы право прописаться с законным супругом, в Москве, разумеется. Я незаметно огляделась: проживать в таком-то дворце? Ну, да где наша не пропадала!.. Свадьбы следует сыграть две — сначала после регистрации в Москве, потом для ленинградских друзей, родственников и знакомых. Накладно, конечно, да ведь на веки вечные соединяем наши молодые росточки, чтобы они дали новые побеги…
Что сказать? Свадьба в Москве была грандиозной, собрался весь сиятельный и влиятельный мир и, кажется, он одобрил выбор Ипполита, хотя дамы явно почувствовали во мне птицу иных жизненных привычек, чем у них. В Ленинграде свадьбу играли проще, посердечней, повеселее, и «Горько!» кричали громче и хором считали, сколько секунд молодой муж зажимал своим жадным ртом губы юной жены.
И тут-то я выдам нечто парадоксальное: хотя свадьба в Питере была две недели спустя после свадьбы московской, я встретила ее фактической девушкой, с нетронутой девственной плевой, оставаясь целкой неломаной, как в быту принято определять это состояние. Да как же так это случилось? А так, что когда мы под бодрые крики гостей отправились в свою комнату, к услужливо распахнутой постели и Ипполит жадно принялся меня раздевать, я останавливала его руки и стала говорить: «Постой! Постой!».
— Чего постой? Давай быстрее, я уже не могу ждать больше!
Я не умела внятно ответить «чего постой», но чувствовала, что со мной ему нужно было бы поступать иначе, надо было сказать сначала что-то нежное, бережное, надо было показать свою любовь ко мне на деле, понять мой страх перед неизвестностью, перед болью. Недаром же в некоторых мусульманских странах молодым предписано всю первую ночь только разговаривать. А он хотел меня сразу повалить, стащить с меня трусики, изнасиловать, проще говоря. Дипломат!..
Что тут сказать? Это была ужасная ночь сплошной борьбы… Когда винные пары повыветрились из его воспаленной головы, он что-то осознал, принялся покаянно целовать мне ноги, стал искренне каяться. Заснуть я, конечно, не смогла, так и лежала до завтрака, судорожно удерживая трусики, а он — он быстро заснул у меня за спиной, захрапел… Такая получилась памятная брачная ночь.
На вторую ночь я очень доверчиво высказала ему все, что думала, ничего не требовала, только просила понять меня. Он угрюмо молчал, видно, переживал свою двойную неудачу, потом спросил только: — Но ласкать-то тебя мне можно хоть потихонечку? Я кивнула головой, но снова горько мне стало: опять все не так! Опять ни слова о своей любви и нежности, никаких знаков внимания ко мне, опять только о своей потребности.
Я повернулась к нему спиной, и он под одеялом потихоньку стал гладить мои плечи, начал добираться до груди, целовать шею, потом вновь воспламенился и, вытащив напряженный член, попытался его сунуть куда-то между моих ног, не рискуя уже сдирать мои трусики. Непроизвольно я лягнула его задом, ему, видимо, стало больно и он впервые за все месяцы нашего знакомства поднял на меня голос:
— Ты что себе позволяешь? В конце концов, я твой законный муж!
— Вот и обращайся в суд по закону. А я спать хочу!.. Ясное дело, видок у нас к завтраку был не лучший. Но родители и прибывшие догуливать гости вроде бы ничего не замечали. Тактичные были люди. На следующую ночь он грустно спросил: — Что же мне делать Настя?
И я опять заметила: мне делать, а не нам, Настя, а не Настенька, и хоть бы грамм любви или восхищения, хоть бы намек на то, как я ему нравлюсь, какая я статная да красивая, что он без конца говорил мне раньше.
Вот такая волынка и протянулась до самой ленинградской свадьбы. А там мне уже жалко его стало, крепится, истощал, на себя прежнего не похож. Я ему шепнула: — Ладно уж, сегодня…
Надо было видеть, как просияли его глаза, выпрямилась спина!
И вот мы остались вдвоем в моей комнате. Я спрашиваю его:
— Ну что ты будешь делать? Как ты все это хочешь?? — а сама жду, что он все- таки скажет о своей любви, прижмет мою голову к своей груди, нашепчет ласковые слова. И вдруг слышу трезвое и конструктивное: — Не беспокойся, вопрос я изучил, тебе почти не будет больно, только ты меня слушайся. — О Господи!.. Он по-деловому быстро сбросил с себя одежду и при свете ночника спросил: — Можно тебя раздеть?
…Болван! Да разве так спрашивают? Этого же добиваются лаской! Я сдержанно кивнула, и он принялся трудиться, снимая с меня одежды. Ловко, надо сказать, это у него получалось, видно, не впервые он расстегивал крючки на лифчике и сдергивал с женщин штанишки. Так впервые я оказалась перед мужчиной совсем нагая. Хоть и при еле видном свете ночника, но все же голая. И он был совсем обнаженный — во всех подробностях. Я стояла около кровати и не знала, что делать.
— Значит так. Лучше всего, если ты поперек кровати станешь задом ко мне и упрешься в нее локотками.
Не возражая, я послушалась и оказалась в позе кобылы перед приемом жеребца. Я, Анастасия, гордая Артемида, человек, и вдруг — в позе кобылы! Он хлопотливо попросил меня развести ноги пошире, и принялся шарить своим членом в поисках входа в мое причинное место. То ли нашел, то ли нет, не знаю, он резко надавил, и невероятная боль рванула изнутри все мое тело, свела спазмом низ живота, скрутила всю брюшину и отозвалась острой иглой, пронзившей насквозь сердце. Я вывернулась, вскочила и не помня себя, какую свинцовую плюху от плеча ему закатила!..
Как он отлетел в угол, как поднялся на ноги, с каким рыком занес руку, чтобы одним махом сбить мне голову, какой животной ненавистью сверкнули его глаза в полумраке!.. Простонав, усилием воли он сдержал себя и рухнул в постель, утепляя глухие рыдания в пухлой подушке. Впервые я видела и слышала не в кино, а в натуре такое мужское горе. Я кинулась к нему, обняла его, стала утешать, но он отбросил меня, лихорадочно оделся и вышел. Только и услыхала я, как громыхнула дверь в прихожей. И родители, конечно, услыхали. А я упала ничком и ни одной мысли, ни одного слова не было у меня в голове, лишь резкая боль в промежности и — ни капли крови. Не туда, видно, он палку свою толкал…
Вот так мы и жили, молодые и красивые. Днем веселые, оживленные, на людях и с людьми, а ночью я забивалась носом к стенке и лежала вся окаменев, пока не понимала, что он уснул. Тогда и с меня уходило напряжение, я забывалась до утра. Медовый месяц, одним словом, жизнь слаще сладкого!
Стоит ли долго тянуть это повествование? На некоторое время мы расстались, чтобы я, уже замужняя дама, получила свой диплом в ЛИТМО конечно красный, без единой четверочки за все пять лет. И предложили мне, само собою, аспирантуру при моей же кафедре, но я отказалась ко всеобщему огорчению: дескать, должна следовать к месту работы супруга. Ну, все, разумеется, уже знали, кто есть мой супруг и кто его папаша, и отношение ко мне изменилось. Едва заметно, но изменилось: вот она какая оказалась, простушка наша принципиальная и чистосердечная — надолго наперед все пресекла и хладнокровно заловила в свои сети такого вот золотого простодушного парня. Значит, держать с нею ухо надо востро, ибо простота ее показушная, а под нею — истинные взгляды, даже страшноватые в сочетании безошибочно-компьютерной точности и прихватисто-делового цинизма. И, конечно, дали мне пышные — не как рядовой выпускнице — рекомендации для устройства на работу в Москве. Немного таких осталось, что по-прежнему верили прямодушию своей Артемиды, да я и не опровергала никого, только сама для себя сделала решающий вывод: насколько же неочевидной бывает самая прямая очевидность. И отсюда проистекал еще более серьезный вывод, к которому я не могла не прийти, лежа ночами на своей одинокой подушке и прокручивая столь блистательное на внешний взгляд начало своей жизни. Вот получила я одну за другой три золотые медали: первую — в школе, и это дало мне право пойти без особых испытаний туда, куда считалось справедливым и престижным. Но туда ли я пошла? Да, учеба и здесь давалась мне легко, потому что я еще в школе научилась систематически и логично осваивать любой предмет. А, может быть, еще в школе не надо было мне так равномерно преуспевать, а найти прежде всего то самой близкое своей душе, что составляло бы для нее постоянный восторг? Ведь не случайно в техническом вузе, где я считалась восходящей звездой в области конструирования томографов, я инстинктивно и необратимо захотела заниматься историей культуры своего народа, и у меня достало сил и тут, в экскурсбюро стать маленькой восходящей звездой. Так, может быть, надо мне было посещать такую школу, где сумели бы раскрыть и развить самую сильную мою сторону, а не усреднение подготовить так, что я (и все мои одноклассники) двинулись вполне случайными дорогами? А я, возможно, наиболее случайной из всех, так как у них-то оставалось время для своих увлечений, а у некоторых даже для тех кружков, студий или секций, что были ближе их душе… Но где такую школу можно найти, назовите мне? А я технарь по образованию, хорошо знала, что чем большая угловая ошибка при вылете снаряда и чем больше заданная ему изначальная скорость, тем дальше он упадет от цели. Вот какая оказалась цена двух моих золотых медалей — за школу и за вуз, они стремительно уносили меня от моего же изначального счастья, от человеческой самореализации.