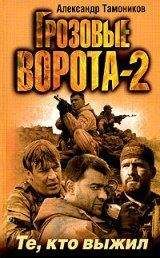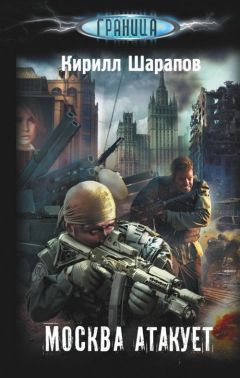Скачко задремал, не слышал, как вошла Саша, и очнулся только, тогда, когда она низко наклонилась над кроватью, вглядываясь в его исхудавшее лицо, обволакивая его теплом своего дыхания. Жалость кольнула сердце Саши.
– Сегодня не надо вставлять раму, – попросила Саша. – Пусть будет так. А дверь я завешу.
Она хотела бы в этот час стеной отгородиться от мира, по крайней мере запереть дверь и ту, что у лестничной площадки, и вторую – из квартиры в коридор, и, наконец, последнюю – дверь его комнаты. Но дверей не было, ни одной.
Она забила кирпичом три гвоздя и завесила дверной проем принесенным клетчатым платком. Бахромчатый край платка едва не касался пола.
– Ты, наверное, хочешь выпить?
– Я и не думал об этом.
– Водки нет, но я знаю, где у отца одеколон.
Он присел на кровати, доски разошлись, тюфяк провалился.
– Теперь многие и это готовы пить, – сказала Саша и хотела пойти, но Скачко удержал ее.
Она взяла со стула кастрюлю и села рядом с Мишей.
– Бедный мой… – С кастрюлей на коленях она свободной рукой погладила Мишу от виска к подбородку, потом осторожно провела пальцем по шраму на губах. – Я принесла вареной картошки. Холодная, я больше люблю холодную. Почистить?
– Почисть…
– Все-таки плохо, что нет вина… Я пойду!
Он снова удержал ее, и Саша ощутила силу его небольшой руки.
– Расстели тюфяк на полу, – сказала Саша. – Так тебе будет удобнее. Нет, нет, в углу постели. У окна не надо, ночью может пойти дождь.
Он отодвинул тюфяк в угол, и Саша перенесла туда стул.
– Теперь я буду тебя кормить. Он покорно открыл рот.
– Вкусно?
– Очень!
– Хочешь соли?
– Хочу.
В кармане ее халата соль, завернутая в обрывок газеты.
– Чего ты кривишься?
– Крупная соль. Горькая.
– Теперь другой нет. – Саша помолчала. – Мне после тебя вкуснее. – Остаток картофелины исчез во рту Саши, в полутьме ее рот казался очень большим. – В лагере не давали картошки?
– Там кормят гнилью, мороженой свеклой.
Он попытался повернуть стул так, чтобы свет луны падал на ее лицо.
– Не надо, – запротестовала Саша. – Ты хочешь посмотреть на меня?
– Я люблю твои глаза…
– Ничего хорошего. – Не игра или смущение, а душевная смута и печаль опустошения прозвучали в голосе Саши. – Когда заняли город, я думала – это ненадолго, на месяц, два. Мы прятались и ждали. Это было страшно, Миша, чем тише становилось на улицах, тем страшнее. Надо было выползти из подвала, увидеть немцев, жить, да, жить, работать, подчиняться надо было, иначе ведь смерть. – Она бросилась на колени, словно ища у него защиты. – Я так боюсь смерти, Миша! Голод, тяжелая работа, только не смерть. Никогда раньше и не думала об этом, а теперь страх, ночью особенно… – Саша заплакала. – Смерть по пятам ходит, это не нервы, а жизнь, сама жизнь, как она сложилась, а изменить я ничего не могу. Хочешь проснуться, – торопливо, с заглушённой тоской заговорила Саша, – и чтобы все стало вдруг прежним, чтобы не было немцев… Чтобы ни одного фашиста не было в городе.
Он поцеловал Сашу. Она взяла со спинки стула голубое пикейное одеяло и бросила его на тюфяк.
– Отвернись, Миша.
Он повернулся лицом к стене. Саша быстро сбросила с себя халат, сунула под стул тапочки. Она стояла на коленях, молодая, сильная, с глазами, в которых смятение и слезы.
– Пожалуйста, расстегни здесь… Повернись, не жмурься. Ты ведь ждал меня… – сказала она дрогнувшим голосом.
Он дотянулся рукой до ее спины. Саша свела лопатки, помогая ему, и он расстегнул две туго захлестнутые пуговки: они поддались его дрожащим пальцам с глухим звуком. Миша вспомнил эти пуговки – маленькую костяную и вторую, побольше, обтянутую полотном. Славная Саша, умная Саша, верная Саша! Как будто время давно остановилось и не было ничего плохого, а все шло по-прежнему, как в лучшие их дни.
– Все как раньше у нас с тобой, правда, Сашенька?
На бульваре Соколовского ждали. Он издали заметил Дугина, потом разглядел сидевших на поваленном телеграфном столбе Скачко и Фокина. Внизу, там, где обрывался бульвар, горел на солнце стеклянный купол крытого рынка, ярко голубело небо, в глянцевой, будто омытой дождем, листве тополей пели иволги. Все как прежде, но бульвар почти обезлюдел и куда-то исчезли тяжелые, на чугунных лапах, скамьи.
Лицо Дугина было сковано напряженным ожиданием, но Скачко и Фокин встретили его улыбкой. Сердце Соколовского откликнулось им – вот кого ему так не хватало весь длинный воскресный день.
– Чачко! Ауф! Ауф! – прикрикнул он, подражая голосу Штейнмардера.
Миша поднялся рывком и стоял нарочито понуро, по-лагерному, вобрав голову в плечи. Соколовский рассмеялся.
– Здорово! – Фокин независимо кивнул.
В его кривой улыбке сквозила хитреца, будто он что-то знал, чего не знали другие и что им не мешало бы тоже знать, но он им не нянька, пусть соображают сами.
– Ну? Чего? – спросил Соколовский.
– Ничего, – ответил Фокин.
– Лемешко где?
– Не знаю, – Фокин не сводил с Соколовского насмешливого взгляда.
– Ладно. – Он присел рядом с Фокиным, обхватив руками колени. – Подождем. Время есть.
– Хватает, – откликнулся Фокин.
В нескольких шагах от них сиротел опустевший гранитный постамент, асфальт позади него был разбит. Неладно было на душе у Соколовского, сознание не мирилось с тем, что памятник сброшен и до поры нужно смириться, и он упрямо, не щурясь, смотрел, как солнце зажигает в толще гранита тысячи живых искр. Казалось, взгляд проникает в глубину камня и по темным вишневым прожилкам достигает его окровавленного сердца.
– Нужно пока задержаться в городе, – сказал Соколовский. – Нам уходить нельзя.
Скачко посмотрел на него недоверчиво.
Дугин только махнул рукой, будто собирался сказать что-то нелюбезное или сжать собственное горло, и двинулся вверх по бульвару.
– Николай!
Соколовский догнал его, но Дугин сбросил руку товарища со своего плеча.
– Что, прибился к жене, к дому, нашел тихую пристань, да? – гневно воскликнул Дугин. – У меня тоже здесь мать и сестра, а мне на все плевать, мне здесь нет жизни! Нет и не будет!
– Посмотри на меня получше, – сказал терпеливо Соколовский. – Разве я похож на счастливого мужа?
– Хватит, насмотрелся на тебя! – огрызнулся Дугин не глядя. – Хочешь – оставайся, может, и Мише захочется передохнуть.
Волнение и упрямство не позволяли Дугину спокойно разглядеть сутулую фигуру Соколовского, его печаль и непокой, костюм с чужого плеча, старые сандалии, из которых торчали пальцы.
– Ладно, так и запишем: Дугин нас за сволочей держит. В лагере держались вместе, а вышли на волю – и все, во что верили, побоку.
Дугин с надеждой посмотрел на Скачко, встретился с неопределенно-насмешливым взглядом Фокина и сказал без прежней твердости:
– Ты за всех не расписывайся. Решил остаться – оставайся, а то пришел других агитировать.
– Миша, ты веришь мне? – спросил Соколовский требовательно. – Если надо, останешься в городе?
Скачко растерялся. Он был привязан к Соколовскому давно, тайно чтил его, но Дугин не сводил с Миши горящих, испытующих глаз, и эти глаза словно заранее казнили его за покорство Соколовскому, за то, что у него не хватит сил бросить Сашу Знойко, уйти от привалившего ему среди беды счастья. И, уставясь в потрескавшиеся сандалии Соколовского, он пробормотал:
– Уходить надо, Иван, всем уходить… Чего здесь делать? Уходить, пока немцы не одумались.
– Так! Так! Все ладом, все как в лучших домах, – отчеканил Соколовский бледнея и повернулся к Фокину, но смотрел не в лицо ему, а на впалую грудь. Он угадывал, что Фокин улыбнется въедливой, обидно хитрой, нагловатой даже улыбкой, и опасался, что сорвется, выйдет из себя.
– Как люди, так и я, – отозвался Фокин и, перелицевав, повторил ту же премудрость: – Как людям, так и нам.
– Ага! Красиво! – глухо проговорил Соколовский. – Значит, зря девять месяцев лагерную баланду хлебали, смерти в глаза смотрели, верили другому, как самому себе: выгнали нас за ворота – и все поумнели, уже на других плевать, уже…
– Брось, Ваня! – взмолился Скачко.
– Затесался, выходит, в ваши сомкнутые ряды провокатор, двухметровая сволочь. – Он ткнул себя в грудь. – Вроде вербует вас! Красота!…
Фокин цвиркнул слюной через стиснутые зубы: он плохо знал этих людей и не мог толком во всем разобраться. Но Соколовский принял Плевок на свой счет, пожал плечами и двинулся вверх по аллее деревянным шагом.
Парни догнали его. Несколько секунд шли молча.
– Что мы такого тебе сказали? – заметил Скачко примирительно. – Сам себя обложил, а на нас валишь. Что же мы тебе – не верим?!
– Вполовину верить нельзя, Миша. Мы слишком дорого заплатили за доверие друг к другу, как же теперь – все побоку, даже не выслушав!…