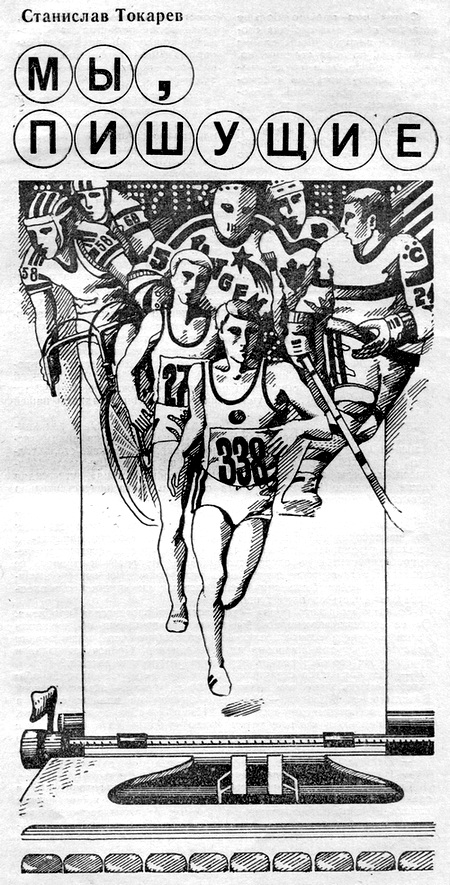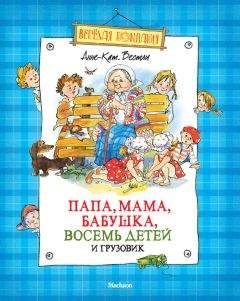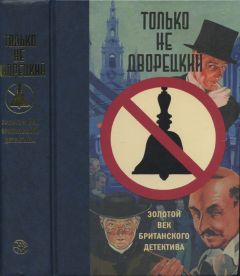«Миша, Мишенька, я ж тебе говорил, все будет путем, а ты, дурочка, боялась». Миша виснет на нем, Герман его целует трижды, крест-накрест. Миша плачет.
Я веду его вверх по лестнице, нахожу пустую комнату.
— Пиши. Пока не отошел, сейчас пиши.
— Не могу.
— Ты все можешь. Пиши.
Михаил Исаакович Меллер (Марин) умер в 1978 году сорока восьми лет отроду. Вернулся с очередной спартакиады, где, как всегда, не щадил себя, не берег больного сердца. Позвонил коллеге-журналисту, пригласил его, чтобы поделиться увиденным, и замертво упал возле телефона, сжимая трубку, в которую он передал столько строк, обогативших нашу журналистику, расширивших пределы познания человека в спорте.
Его хоронил весь Горький. Он лежал в гробу, седой и бородатый, похожий уже не на Наполеона — на Хемингуэя, пожалуй.
Отпылал.
Люблю беседовать с Филатовым — так же, как Филатова читать. Знаменитый футбольный обозреватель, редактор еженедельника, Лев Иванович склонен думать вслух — так же, как на бумаге, истины, в которых он убежден, выглядят у него, тем не менее, оставляющими собеседнику «пространство соразмышления», он не стремится припирать доводами к стенке. Его манера высказываться неизменно свежа, поворачивает мысль неожиданной стороной, удивляет тебя точностью, идет неторопливыми витками в самую глубь явления. Голос негромок, фраза законченная, взвешенная, выверенная.
В тот раз речь у нас шла о спортивном очерке — Лев Иванович, как всегда, без категоричности, не горячась, мягко стеля, оспаривал его право на существование. Говорил о том, что наш читатель привержен, в первую очередь, к факту — неоспоримому. Его волнует объективная истина: как сыграли, сколько забили, оценка игры. Игры, а не того, что чувствовал игрок, какие житейские обстоятельства отягчали его в миг, когда, выбежав один на один с вратарем, он ткнул носком бутсы в землю, и мяч пролетел мимо ворот.
— Кто из нас, — говорил Филатов, — имеет такую читательскую почту, как Константин Сергеевич Есенин? Уверяю вас, никто. Вот свежая пачка писем: убедитесь: Есенину... Есенину... Есенину.
Для немногих — очевидно, очень немногих — непосвященных поясню, что сын поэта, инженер, известен прежде всего, как крупнейший футбольный статистик. Цифры, касающиеся всех сторон футбола, Константин Сергеевич превратил тоже в своеобразную поэзию — в них игра обретает гармонию и дисциплину строфы.
— А видите, что у него спрашивают? — продолжал Лев Иванович. — Кто, сколько, когда? Наша малейшая ошибка в подсчете, уверяю вас, рождает взрыв. Болельщик любит точность.
Филатов говорил, что в рассуждениях о жизни спортсмена вне основного поля его деятельности — стадиона — ему лично всегда чудится неточность, приблизительность, отход от объективной истины.
— Мы бываем такими выдумщиками, согласитесь.
Это «мы» в его построениях деликатно заменяло «вы», относящееся ко многим и, очевидно, ко мне в том числе.
Есть, конечно, границы, которые нельзя переступать. Вопрос в том, где они лежат.
Много лет назад я написал очерк «Двое, нашедшие друг друга». О Людмиле Смирновой и Андрее Сурайкине, знаменитой паре фигуристов. Знал, что пару не раз намеревались разбить — иным партнеры казались не подходящими друг другу. Знал, что добрая, нежная Люда Смирнова, стыдливая, домашняя, стояла на страже их спортивного союза верно и твердо, непреклонно.
И вот был у нас откровенный разговор с глазу на глаз. И я спросил:
— Люда, как ты сумела выстоять?
Она сказала:
— Я его люблю.
Я знал, что Андрей суров к Люде, как суров к себе, не прощает малейшего промаха, что она обречена на аскетизм, но она сказала «я его люблю», и это объяснило все.
Спросил осторожно:
— Ты позволишь мне об этом написать?
Она посмотрела на меня бесхитростно, чисто и строго:
— Да, конечно. Что же тут скрывать?
Пошел к Андрею, рассказал все, как было, спросил его мнение.
— Она вам сказала? Ну, что ж, я бы на вашем месте написал. Ведь это правда. Ведь правда, наверное, — если бы было по-другому, не было бы нашей пары.
Очерк был замечен, похвален — фигуристами, в том числе.
Прошло несколько лет, и Люда Смирнова рассталась с Андреем Сурайкиным, вышла замуж за Алексея Уланова, стала его партнершей.
И на меня обрушилась лава возмущенных читательских посланий. «Вы же говорили, что она его любит, как же она могла? А если вы написали неправду, как вы могли?» Что было отвечать? Что мир чувств сложен, непредсказуем, а спортивная знаменитость — всего-навсего человек?
Да, Люда разлюбила. Полюбила другого, который любил ее. У этого другого давно назревал конфликт с тренером, чьи взгляды на стиль катания противоречили его взглядам, конфликт с партнершей, отношения с которой у них не складывались, — чувство этот разрыв ускорило.
Так вот, я спрашиваю себя: случись все это со мной во второй раз, появились бы в очерке те слова девушки: «я его люблю»? И спустя много лет, много передумавший и понявший, критикованный, битый, черт возьми, отвечаю себе, что и во второй раз написал бы об этом.
Потому что иначе все непонятно. Потому что любовь партнерши к партнеру в пору, когда я писал, составляла суть и смысл и ее отношения к спорту. Ее женское сердце просило любви и во имя любви было обречено на долготерпение, на подвижничество. Иных к долготерпению побуждает иное, ее — это. Любовь ушла, и пропало то, во имя чего она каталась с тем партнером. Пришла другая любовь, повлекла к новому творческому витку. А коль сложилось, что путь новой пары в спорте оказался короток, что делать, судьба так судила. Но в балете на льду эти двое сверкают по-прежнему, и творчество, согреваемое любовью, значит, продолжается.
Как мне в рассказе об олимпийской чемпионке Татьяне Казанкиной было умолчать о том, сколь многим в жизни обязана она встрече с Александром Коваленко? Математик, человек логики, точности, системы, он стал
опорой, бережным старшим другом нервной, ранимой, далеко не всегда уверенной в себе Тани, их супружеский союз расширил и обогатил ее мир, подарил тягу к книге, к музыке и, что главное, внушил ей убежденность в нужности — для любящего ее человека и для всех людей — ее дела, ее бега.
Сколько необыкновенных людей довелось мне встречать, какие характеры-глыбы.
Аркадий Никитич Воробьев, бывший водолаз, бывший солдат, штангист — чемпион и рекордсмен, ныне доктор медицины, ректор института, изваял себя, точно скульптор — атланта, доказал экспериментальным путем не только ряд положений, связанных с работой органов тела при поднимании сверхвесов, но