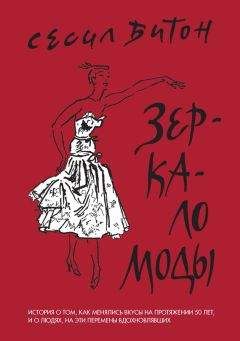Но внезапно он рвет с ним всякие отношения. Тщетно обескураженный Бакст пытался найти этому объяснение: между ними не происходило ничего, что могло бы привести к разрыву. На вопросы общих друзей импресарио ответил просто: «Леон Бакст послужил мне чем мог и едва ли создаст что-то, что меня заинтересует».
В оправдание своего бессердечного поступка Дягилев добавил: «Моя жизнь – балет. Ради него должно жертвовать всем. А Бакст, сдается мне, устаревает. Мне приятнее работать с более молодым поколением декораторов – Пикассо, Дереном, Руо, да хотя бы и Пруной Пере. Нет, с Бакстом кончено».
Вероятно, не пережив разрыва, Бакст вскоре слег, а спустя несколько лет скончался. Для мастера, создавшего роскошный антураж «Шехеразады» и «Спящей красавицы», уже и не важно было, что Дягилева после его кончины стали терзать муки совести. Из этой истории каждый сделает свой вывод. Я бы сказал так: какова бы ни была ценность искусства, она не может сравниться с ценностью самой жизни. Кроме того, в лозунге «Искусство ради искусства» временами обнаруживается жестокий смысл – как и в любом политическом догмате, если поставить его превыше человеческих ценностей.
Господство русского балета Дягилева длилось не более двух десятков лет: оно завершилось в 1929 году со смертью импресарио. Но можно без сомнения сказать: все эти годы русский балет жил и дышал, ведь Дягилев сумел открыть его жизненную силу, пробудить дремлющую в нем душу. Говорят, что в те времена импресарио мог рассчитывать исключительно на поддержку частных меценатов и сезоны в целом были убыточны. Балетная труппа сегодня – это серьезный источник дохода для очень многих магнатов. В наши дни искусство танца популярно не меньше, чем оперетты Гилберта и Салливана, кроме того, оно перестало быть уделом избранных. На смену «Весне священной» пришли балетные фестивали; дягилевской звезде Алисии Марковой сегодня аплодируют больше, чем прославленным комедиантам.
После смерти Дягилева в балете – в танце как таковом, равно как и в живописи, – не происходило ничего принципиально нового. Может, потому, что только Дягилев был способен открывать таланты, а без него таких умельцев не находится; каждое поколение причитает о «днях былой славы», которые не вернуть назад. Однако при внимательном рассмотрении становится ясно, что кипучая деятельность в искусстве, которая развернулась в начале XX века, сегодня практически сошла на нет. Можно полагать, что плодотворность искусства связана с внешними факторами, над которыми мы не властны; можно также утверждать, что оно способно дать ростки в любые времена на любой почве. Мы должны быть благодарны Дягилеву за бесценный вклад в искусство: его дело пережило его самого. Сегодня нас совершенно не удивляет, когда к работе над декорациями к пьесе или балету привлекают художника. Между тем до Дягилева невозможно было вообразить, что за такую работу возьмется мастер уровня Бакста или Пуаре. Один русский дворянин без посторонней помощи сумел разрушить стереотипы и предрассудки и привлек к декораторскому ремеслу величайших художников. К несчастью, ремесло это вскормило и толпы посредственностей, как шакалов на падали. Когда мы сегодня смотрим голливудскую комедию и видим танцевальный номер, то знаем: перед нами пусть блеклое, более вульгарное, но все же прямое продолжение тех новых выразительных средств, которые более сорока лет назад внедрил мастер, не говоря уже о балете серьезном, академическом: и здесь вновь утверждены введенные Дягилевым принципы. Именно Дягилев открыл миру Джорджа Баланчина; из всех ныне живущих хореографов[5] именно Баланчин, пожалуй, заслужил право унаследовать корону мастера.
Если взглянуть на вершину искусства, равно как и на самый низкий его пласт, мы обнаружим, что до сих пор живем за счет достижений прошлого. Из смерти непостижимым образом произрастает жизнь, как розы из перегноя; все искусство современности будто родственно великим художникам и влиятельным деятелям прошлого. Не исключено, что и у Дягилева были свои учителя, имена которых до нас не дошли. Новое – хорошо забытое старое. С искусством, как с эволюцией: любое новое явление – лишь последнее звено в цепи, уходящей в глубь веков, к зародышу человеческого сознания, к первобытным изображениям бизонов на стенах примитивных пещерных жилищ.
Ида Рубинштейн, 1913 год
Пропагандируемая Дягилевым новая экзотика нашла идеальное воплощение в Иде Рубинштейн; и пускай маэстро относился к ее танцу без особого почтения, все же он чувствовал, что недостаток мастерства танцовщицы успешно возмещается природным изяществом фигуры и движений. Ее творчество, сплошь состоявшее из ужимок и резких подергиваний, началось с «Клеопатры» и других балетов а-ля «Тысяча и одна ночь». Танцовщица была долговязой, тощей – про таких говорят «мешок с костями». Однако благодаря высокому росту и худобе на ней великолепно смотрелись заморские наряды, особенно трехъярусные юбки, которые не пошли бы никакой другой фигуре. Она была звездой не только на сцене, но и в жизни: она эффектно выходила на Пикадилли или Вандомскую площадь в наряде амазонки, в платье со шлейфом, длинных остроносых туфлях и с высоченным плюмажем на голове – этот плюмаж придавал ее костлявой фигуре поистине исполинские размеры.
Именно для нее стало привычкой красить веки, ее растрепанная прическа напоминала клубок черных змей, так что она представляла собой нечто среднее между мертвецом и горгоной Медузой.
Балет «Шехеразада» стал триумфом Бакста; из всех восточных балетов только этот дожил до сегодняшнего дня, подрастеряв чарующую атмосферу, которая была свойственна первой постановке. Благодаря неистовому танцу и ярким краскам из бутылки вырвался наружу восточный джинн, правда, несколько аляповатый с виду. Сказки, рассказанные на ночь султану, стали темами для светских маскарадов и вечеринок, во время которых дамы показывали «живые картины»: прикрыв лицо платками, которыми обычно повязывают больную голову, нацепив на щиколотки золотые браслеты, они изображали рабынь и наложниц. На снимках барона де Мейера, сделанных в Париже и Нью-Йорке, можно увидеть дам, укутанных в раззолоченные ткани. Лондонская публика выглядела иначе: здешних дам объектив фотокамеры застал в весьма развратных позах, на пальцах у них металлические пластинки – сагаты, а пальцы ног украшены колокольчиками. Мода из пастельного города корсетов, кружев и павлиньих перьев внезапно переехала в расцвеченный буйными красками восточный шатер, полное сладострастия царство шаровар, бисера и бахромы. Позднее на смену придут яркие футуристические шарфы в клетку и треугольник – несомненное наследие Бакста.
Помню, как на выставке футуристов француженка воскликнула: «C’est d’un mauvais goût épatant!» («Какое кричащее дурновкусие!»). Футуризм проник в моду хитростью, отвесив многозначительный поклон восточной экзотике: на диванах с оранжевой или бордовой обивкой красовались большие подушки зебровой расцветки; в мелких плошках плавали цветки лотоса; пол был устлан черным, с грубым ворсом, ковром, стены выкрашены в изумрудно-зеленый цвет или же оклеены золотистыми или серебристыми обоями, вроде той бумаги, которой обыкновенно оклеивали внутренние стенки комода, мебель же была угловатой, из лимонного дерева. Местами на толстом ворсе ковра виднелся пепел от сигарет марки «Пера».
Из русского балета буйство красок перекочевало в музыкальные комедии и ревю. Подростком я бегал, затаив дыхание, смотреть на Этель Леви. Эта великолепная, блистательная американская артистка обладала орлиным носом и в профиль напоминала барана. Еще у нее были крохотные ступни, по сцене она шла словно экзотическая птица и умела высоко вскинуть ногу, сделав идеальный мах. Это она первая придумала петь в джазовой манере, раскинув руки, втягивая голову в плечи на каждой фразе, подчеркивая тем самым изысканный синкопированный рисунок.
Творчество Этель Леви можно охарактеризовать как утонченное варварство: таким контральто мог петь, скажем, какой-нибудь угольщик, любитель искусства. Ритм она чувствовала блестяще – лучше, чем любой чернокожий с американского Юга. Она была наделена огромным обаянием, в ней было что-то вызывающее, но что именно – это не поддавалось пониманию. По всей видимости, ее отличал особый, неповторимый шик, пленивший всех творческих людей того времени. Неудивительно, что Дягилев ее заметил и однажды предложил в «Шехеразаде» роль Зубейды.
Этель Леви была законодательницей мод; когда на ипподроме в Булонском лесу она появилась в шляпе-котелке, ее осмеяли, однако вскоре котелки стали носить все без исключения наездницы. Но «фирменным» знаком ее был, пожалуй, застегнутый на щиколотке, как у наложницы, браслет, который был всегда при ней. Сама она утверждает, что ввела моду на декоративную бижутерию: вечно она была увешана золотыми браслетами с монетками и оберегами. Леон Бакст придумал ей костюмы для ревю, и один из них сочетал в себе горчичный, желтый, белый, черный и изумрудно-зеленый цвета – я тогда и не предполагал, что такое вообще возможно. Кроме того, Бакст был и автором интерьера ее дома в Лондоне на Глостер-террас: результат для своего времени выглядел слишком вызывающе.