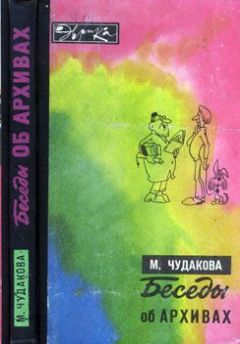В этом смысле представляется более "правильным" рассуждение такого примерно рода: "Люди разных эпох сохраняли свои бумаги... Быть мсжет, в этом чтото было все-таки, хотя мне сегодня кажется все это ненужным?.." Подходить к будущему с меркою только сегодняшнего, мимотекущего дня - это значит чаще всего не думать ни о прошлом, ни о будущем, тогда как человек, размышляющий о прошлом, включает себя в поток исторической жизни и тем самым ближе становится к построению такой модели будущего, которая хоть вряд ли сможет предвосхитить его, но продиктует зато правильные формы исторического поведения сегодня. Ощутить по-настоящему сегодняшний день, сегодняшнее свое существование можно, только выйдя за его пределы.
Об этом писал в 1930 году Ю. Тынянов: "Всего труднее заставить человека поверить в факт, факт его существования.
Не то чтобы он не чувствовал, что существует: он чувствует свое дыхание, свое тепло, иногда и чужое, он носит свое тело, в нем проходят мысли, он работает, - вещь рождается у него под руками. Но на сколько верст в окружности существует он, на сколько лет?
Смотря кто. Есть диаметр сознания. Интерес к прошлому одновременен с интересом к будущему. Человек из записной книжки Чехова взглянул на похороны: вот ты умер, тебя хоронить несут, а я завтракать пойду.
Этот человек, конечно, может сказать и о будущем: вот ты не родился еще, и у тебя нет фамилии, а я сейчас завтракать пойду".
Этот "диаметр сознания" велик у поэта. У него не только интерес к прошлому и к будущему, но не прерывающаяся прямая с ним связь; так же отчетливо, как чувствует он "свое дыханье, свое тепло", он знает: "На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло". Мысль о той жизни, которая текла или будет течь без него, для него естественна. В стихотворении "Тебе - через сто лет" М. Цветаева с такою страстью говорит со своим будущим читателем, что в его реальности и прочной связанности с сегодняшней жизнью поэта усомниться невозможно. Само писание стихотворения уже предполагает будущего читателя; в одно и то же время оно и мотивировано фактом его долженствующего существования, и прямо воздействует на осуществление самой этой возможности. Эта прямая зависимость выразилась в дневниковой записи М. Цветаевой: "Вчера целый день думала о том - через 100 лет - и писала ему стихи. Стихи написаны он будет". Напомним и статью О. Мандельштама "О собеседнике", где показано, что существование этого отдаленного во времени читателя как бы заложено в самой структуре стиха, вращено в нее. Цитируя строки:
И как нашел я друга в поколенья, Читателя найду в потомстве я... - он поясняет: "Проницательный взор Баратынского устремляется мимо поколения, а в поколении есть друзья, - чтобы остановиться на неизвестном, но определенном "читателе"..." Дело, оказывается, в том, что "обращение к конкретному собеседнику обескрыливает стих, лишает его воздуха, полета. Воздух стиха есть неожиданное. Обращаясь -к известному, мы можем сказать только известное". Поэт знает, чувствует, ощущает ежечасно - он не просто останется в памяти живущих, но само слово его останется на их устах, его словами будут они говорить о себе.
.. Я младший из семьи
Людей и птиц, я пел со всеми вместе
И не покину пиршества живых
Прямой гербовник их семейной чести,
Прямой словарь их связей корневых.
А. Тарковский
В массовом сознании в отличие от поэтического господствует сегодняшний день. "...И некогда нам оглянуться назад" - нивелирующая песенная форма, делающая банальным даже небанальное, облекла здесь вполне справедливое горестное наблюдение над ежедневным опытом современника. Ни оглянуться назад, ни заглянуть вперед, ни взглянуть на сегодняшний день - извне; и оценки этого дня автоматически распространяются на будущее.
Именно фетишизация нынешнего дня с его оценками сказывается в том, как решительно обходятся люди с документами, отразившими этот день или дни давно минувшие. В сегодняшнем массовом сознании "старое" нередко отождествляется с "ненужным". Молодой человек, едучи на машине по узким улочкам, говорит:
"И что эти дома здесь стоят, кому они нужны? Старые!
Снесли бы их - построили бы новые, современные..."
Здесь важно то, что проблема большей или меньшей ценности "старого" перед ним не встает - она вся уже исчерпана противоположением "старого" "новому".
Это простейшее умозаключение ("старое - значит, ненужное"), прочно основанное на невежестве, попадая в определенные сферы деятельности, становится силой разрушительной. В районной библиотеке идет чистка фонда. "Что вы выкидываете?" - "А старые книги!" - "Это в каком же смысле "старые?" - "Ну, которые вышли давно!" Это были книги двадцатых годов нашего века; многие из них были библиографической редкостью.
И уж безусловно "старое-ненужное" - все эти связки старых писем, выцветшие коробки, набитые бумажками - счета не счета, какие-то записки...
Старая генеральша в одном из самых ранних рассказов В. Катаева "Сигары его превосходительства" (1923) роется в ящиках своего туалетного столика, пытаясь найти что-нибудь для продажи, перетирая ту "не имеющую никакой ценности дрянь, которой всегда бывают набиты коробки и ящики женщин ее возраста.
Пачки порыжелых писем, перевязанные лиловыми ленточками и слабо пахнущие хорошими французскими духами, бархатные альбомы институтских стихов, рыжие глянцевые фотографические карточки... Распорядительские бантики, ветхие, истлевшие афишки оперных премьер, напечатанные старинным жирным шоколадным шрифтом...". Здесь с резкостью выражен тот ценностный взгляд на "пачки порыжелых писем", который вполне соответствовал тогдашней общественной атмосфере, порожденной всей совокупностью социальных изменений. Сейчас это явный анахронизм, и все же опыт показывает: никогда нельзя быть уверенным, что после смерти непосредственного владельца писем, имеющих бесспорный исторический интерес, не раздастся звонкое восклицание молодых наследников: "Вот где пыль-то копилась!" И все будет отправлено на свалку. А молодые люди дадут себе слово жить по-новому, не копить эту рухлядь, не разводить пыль.
В жизни общества, как и в жизни отдельного человека, бывают периоды преобладания то одного, то другого типа отношения к "вечной" теме жизни и смерти, молодости и старости. В тридцатые годы смерть литературного героя наступала только от вражеской пули или, по крайней мере, от старых ран, но никак не от старческих немощей. Некрологи тех лет оптимистичны и полны энергичных призывов, обращенных к живым, вполне соответствуя канонам тогдашней средней литературы. Долгая, на много страниц развернувшаяся смертельная болезнь главного героя в романе Л. Леонова "Дорога на океан" воспринималась на этом фоне как неожиданность, как исключение.
Разговоры же о смерти считались вовсе непристойным занятием для литературного героя. Подводить итоги уходящей жизни, отдавать близким распоряжения на случай непредвиденных трагических обстоятельств - все это не вышло, разумеется, из обихода вовсе, но оставалось чертой сугубо частной жизни людей, уйдя за пределы сферы общественного внимания. В сознании большинства такого рода распорядительность могла трактоваться не иначе как смешной и подозрительный предрассудок, как пережиток навсегда ушедших времен и обычаев.
В тридцатые годы смерть нередко становится материалом для пародийного, сатирического обыгрывания. "Тут недавно померла одна старуха. Она придерживалась религии - говела и так далее. Родственники ее отличались тем же самым. И по этой причине решено было устроить старухе соответствующее захоронение"; "На этот раз позвольте рассказать драматический эпизод из жизни умерших людей" - так начинались многие рассказы М. Зощенко тридцатых годов, точно фиксируя характер общественного отношения к предмету, к тому, в каком обличье пристало появляться этой "неуважаемой" теме перед глазами читателя газет и журналов.
Героями литературы тех лет были молодые люди, наслаждающиеся здоровьем, спортом, работой. Не только смерть, но и старость была отодвинута на периферию литературы; ее проблемы не интересовали ни писателей и публицистов, ни нового массового читателя.
Старое было приравнено к вымирающему, и процесс вымирания не должен был занимать ничьего внимания.
Старик мог появиться среди литературных персонажей тех лет разве что в гриме ("Тимур и его команда"
Гайдара, где в гриме репетирует роль старика молодой и вполне спортивный инженер Гараев) или в непрезентабельном виде безвредного чудака (если не вредного брюзги), оставшегося от старого режима и по ошибке задерживавшегося в не принадлежащем ему настоящем. "Вот кому я не завидую - это старухам, - не понижая из деликатности голоса, суверенностью во взаимопонимании читателей-современников возглашал обычный зощенковский герой и рассказчик, полноправный выразитель обыденного сознания. - Вот старухам я, действительно верно, почему-то не завидую. Мне им, как бы сказать, нечего завидовать".