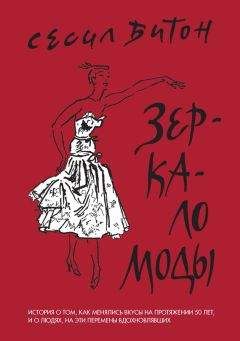Не менее «современной» была и Анита Лус; образ и ее героини из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок», несомненно, надолго войдет в историю американского кино. Еще молодой девочкой, миниатюрной, компактной, она обнаружила, что ей не так-то просто выбрать себе одежду. На старых фото, где ее лоснящиеся черные волосы собраны в косички, она выглядит так, будто вконец устала от драпированных бархатных и плюшевых шляпок, широких плащей, юбок, горжеток и муфточек – словом, от фасонов, запечатленных в первых немых фильмах. Но пришли 20-е годы, а с ними и новая мода, и тут уже Анита Лус смогла развернуться, стать собой. Она постриглась под мальчика, надела матроску и впредь за платьями и головными уборами стала ходить в детский отдел. Одежда ее всегда была аккуратно накрахмалена, как у ребенка перед прогулкой, набриолиненная челка аккуратно уложена; на ремешках сверкали пряжки, сумка походила на школьный ранец, к тому же на голове была широкая бескозырка, а на рубашке – воротник, как у Питера Пэна. Словом, милее Аниты не было в целом свете. Она придумала собственную грамоту моды; она подчинялась этим правилам беспрекословно и всегда, и по части шарма с ней уже никто не мог соперничать.
Анита Лус, 1952 год
Появилась в 20-е годы и еще одна яркая американка, женщина-призрак – госпожа Кэрролл Карстерс. Она на долгие годы сохранила модную в ту пору фигуру и осанку: округлые плечи, соблазнительно манящие бедра и острые локти, которые было позволительно класть на стол. Совершенно прямые волосы плотно прилегали к голове, как атласный чепчик. Шляп она не носила – разве что шапочку-колпачок, сильно сдвинув ее на затылок. Вечерние ее наряды представляли собой различные сочетания блузки и юбки, впрочем, зачастую сшитых из плохонькой ткани.
За пределами круга этих законодательниц мод в 20-е годы вращались барышни из семейств нуворишей. Они танцевали чарльстон, любили кроссворды и отличались на удивление дурными манерами: дело в том, что в их среде грубость и неотесанность приветствовались. Некоторые юные обеспеченные дебютантки вели себя слишком напористо, любили подшутить над подругами и общались между собой на особом жаргоне эгги-пегги, или «поросячьей латыни», в присутствии тех, кому войти в их круг не дозволялось. Если вдруг вблизи появлялся нежелательный гость мужского пола, они вначале некоторое время дружно молча рассматривали его, а затем разражались презрительным хохотом. Если на вечере танцевали прекрасные классические танцы, то эти «штучки» тут же уезжали в модный клуб. На вечеринку они нередко прибывали, тараня своими мощными авто узорчатые кованые решетки, ломая ворота, сшибая каменные столбы. Одной горячей барышне даже удалось разнести таким образом дно декоративного пруда. Это горластое, развязное, наглое молодое племя было своего рода передовым отрядом, задачей которого было разрушить общественные устои. Нынешним молодым людям нормального воспитания опасаться нечего, они достаточно самостоятельны и независимы в суждениях.
Но тогда эта фривольно-экзальтированная атмосфера возникла, несомненно, под влиянием театра. В конце 20-х годов голоса молодых барышень, прежде нежно ласкавшие слух, погрубели от табака, сделались каркающими, надтреснутыми. Мужчины переняли утрированно рубленную манеру сценической речи, свойственную тогдашним известным, уверенным в своей неотразимости актерам, и во всем остальном также им подражали.
Теперь стало модно рассуждать в одинаковом тоне о делах и любовных историях, перемежая сплетни и исторические факты и сдабривая всё джазовым жаргоном, или, скажем, обсуждать архитектурные шедевры вроде мемориала принца Альберта, то и дело упоминая латинские названия растений. Влияние Ноэля Кауарда распространилось не только на Лондон, оно простиралось до Риксмансворта и даже до Пуны в Индии: бравые капитаны и полковники охотно перенимали постмодернистскую эстетику, получившую название «кэмп», и на досуге без конца сыпали именами исторических личностей от Жанны д’Арк до Мерлина – всё у них было «прелестно». В моду входили одобрительные высказывания вроде «мрак» и «жуть». Мужчины, вне зависимости от статуса, стремились подражать Ноэлю Кауарду, нося атласную облегающую одежду, делая идеальные стрижки, манерно держа сигарету, либо телефонную трубку, либо бокал с коктейлем.
Провозвестницей новой моды среди представительниц прекрасного пола была Гертруда Лоренс. Не будучи наделена от природы особой красотой, она, однако, сумела сделаться привлекательной в глазах мужчин. В ней в значительной мере воплотились дух и характер эпохи. Вся она была удивительным образом соткана из противоположностей. Голос ее был как мед, но мед слегка засахаренный. Загар успешно камуфлировал грубые, несколько обезьяньи черты ее лица. При этом платья она предпочитала длинные и просторные: они как нельзя лучше подчеркивали очертания ее тренированного тела. Чем более закрытым был наряд, тем более вызывающе он на ней смотрелся. Куря сигарету, она всем своим видом показывала, будто только что встала с постели и желает поскорее туда вернуться.
Ноэль Кауард, 30-е годы
Даже в 30-е годы на театральной сцене было полно экзальтированных персонажей а-ля Лоуренс или Кауард; они нашли место в тогдашних комедиях, авторы которых прекрасно уловили дух эпохи. В балете по-прежнему царствовал Дягилев, декораторами у него были Пикассо, Дерен, Брак и Пруна. Простота декораций, созданных Пабло Пикассо, разительно контрастировала с новаторством и бунтарством творений Бакста: краски стали грубее, примитивнее, появилось больше светлого ультрамарина, белого, алого, голубого. Часто можно было увидеть на подмостках блузу наполовину черную, наполовину белую. Появлялось все больше постановок на морские сюжеты, публика стала ездить на новый курорт Вильфранш-сюр-Мер на французском юге, а модные дамы, желая произвести фурор, нередко носили тельняшку.
Юные девы, так называемые почитательницы искусства, выпрямляли волосы и делали короткие стрижки, аккуратно подбривая затылок. У них были в почете велюровые куртки и свитера, юбки дирндль, широкие, сборчатые, темные с добавлением дерзкого акцента – голубого, оранжевого, ярко-зеленого. Образ дополняли туфли с ремешком. Эти барышни, богини районов Кингз-Роуд и Челси, обыкновенно уезжали в Италию, Америку, Францию и Германию учиться балетному искусству. Осознанно или нет, все они копировали специфический образ и фасон, настоящей первооткрывательницей которого стала миссис Огастес Джон.
Дорелия Джон пришла к нам как будто из древней истории, из Вавилона или Греции: в веке двадцатом до нее так не одевался никто. Ее костюмы напоминали наряды индианок и вместе с тем имели совершенно европейский вид, сочетая в себе классический крой с подлинно цыганскими мотивами. В искусстве воплощать в себе образ жизни никто не преуспел так, как Дорелия Джон; этот уникальный дар она сохранила на долгие годы. Безусловно, при муже-гении ей отводилась роль музы – все лучшее он так или иначе создал в том числе благодаря ей. Но и она была самостоятельной творческой единицей. За последние сорок лет она ни разу не изменила своему стилю, лежащему где-то вне времени и неподвластному его веяниям. Прошли годы, и она примерила роль пожилой дамы, словно не обращая внимания на то, какой фурор она производит своим появлением, как очаровывает всех присутствующих. Эта седовласая дама в алом переднике поверх синего хлопкового платья, прижимающая к груди корзину с собранными в саду фруктами, потрясает одним своим видом – подлинно библейским.
Миссис Огастес Джон
Дом ее, на мой взгляд, прекрасен, и это естественно: это дом настоящего художника. В нем все излучает красоту и у всего есть строго определенное назначение. Одно из окон украшает горшок с нарциссами – в наш век столь естественной красоты и не встретишь. В жизни Дорелия Джон, как подобает по-настоящему чистым, лишенным жеманства людям, благородна во всем, даже в быту. Изящество изначально присуще и корзине с хлебом, и тарелке с помидорами, и винной бутыли. Неотъемлемой частью прекрасного натюрморта, рассказывающего нам о семейной жизни, может быть даже уилсовский портсигар. Узнав, что я в восторге от ее дома, миссис Джон, вероятно, удивилась бы больше всех. «Какая чепуха! – наверняка воскликнула бы она. – На красоту мой дом нисколько не претендует. Беспорядок, не более того: на красоту у меня нет времени, на мне дети и хозяйство».
Надеюсь, дорогая Дорелия меня простит, но, если дом и не прибран, для меня это знак отсутствия жеманства и свойственной только ей беззаветной преданности делу. В ней нет ни толики самолюбования или наигранности, зато чувствуется прямодушие. Возможно, читатель, пробежав глазами эти строки, усомнится в правомерности моего восторженного отношения и решит сам взглянуть на интерьер семейства Джон. Он будет удивлен, не обнаружив никакой закономерности в подборе цветов. Действительно, красота здесь неочевидная, подспудная, невидимая, но ощутимая.