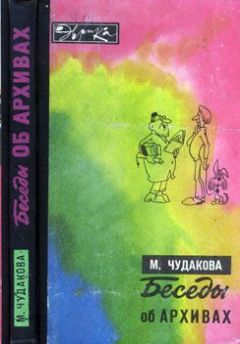"В настоящее время, - писал он, - как судба ваша через себе определила на Военное Попрыще, то мы Вам советуем заглянуть в Устав Дисцыплинарных Взысканий и Уголовных Законоа Военного Ведомства, и Вы усмотрите в оном Законе цывилизацию Чинов Военого Ведомства"..."
И чем дальше пишет писарь, тем больше расширяется пропасть между совершенно условным текстом письма и тою "жизнью", которую хотела бы вместить в строки письма старуха. "Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса соображала о том, что надо бы написать, какая в прошлом году была нужда, не хватило хлеба даже до святок, пришлось продать корову. Надо бы попросить денег, надо бы написать, что старик часто похварывает и скоро, должно быть, отдаст богу душу... Но как выразить это на словах? Что сказать прежде и что после?"
Вот они, эти сакраментальные вопросы, которые и есть основа эпистолярии, которые и отделяют "умеющих" писать письма от "неумеющих". Старуха неграмотна, и сфера письменной речи для нее - чужая, неведомая земля, стеной отгороженная от того языка, на котором она говорит и думает, который слышит вокруг, и ей никаким образом нельзя преодолеть эту стену и как-то приткнуться к этой земле. Писарь, напротив, грамотный, но он не только не хочет, но, надо думать, и не может разрушить эту стену, и именно поэтому из-под пера его льются слова обкатанные, не имеющие отношения ни к корове, ни к хвори старика, а сам старик, слушая письмо, "не понял, но доверчиво закивал головой.
- Ничего, гладко... - сказал он, - дай бог здоровья. Ничего...".
Но значит ли это, что вся переписка такого рода как бы "недействительна", что она не выполняла своего прямого назначения общения людей на расстоянии?
Нет, выполняла, действовала, достигала цели. Есть некая магия эпистолярного жанра, заключающаяся в том, что письмо, написанное родным, любящим и любимым человеком, воспринимается обычно как бы "поверх" и формы его и содержания, шаблонный оборот речи наполняется живым смыслом, живой интонацией, казалось бы, никаким образом в нем не обозначенной.
И старухино письмо дошло по адресу и безошибочно достигло цели. "...Ефимья дрожащим голосом прочла первые строки. Прочла и уж больше не могла; для нее было довольно и этих строк, она залилась слезами и, обнимая своего старшенького, целуя его, стала говорить, и нельзя было понять, плачет она илч смеется. - Это от бабушки, от дедушки... - говорила она. Из деревни... Царица небесная, святители угодники. Там теперь снегу навалило под крыши... деревья белые-белые.
Ребятки на махоньких саночках... И дедушка лысенький на печке... и собачка желтенькая... Голубчики мои родные!" Все уместилось, оказывается, в шаблонную, старинными письмовниками продиктованную и через несколько поколений прошедшую фразу письма - и белые деревья, и лысенький дедушка, и желтенькая собачка...
Вот пример другого рода.
"Учителя тебе, мой друг, я нашел - Швейцара, который по-французски и по-немецки говорит очень хорохорошо и прочие науки знает, и мне полюбился. Если Бог велит, я с собою привезу его. Я хотел бы и сам здесь ходить слушать курс физики у славного Профессора, у которого многие знатные люди слушают ныне по часам, и между прочими вице-канцлер Граф Панин с семейством своим ездит слушать уроки, но свободных часов для меня еще не открылось, и конечно намерен воспользоваться знаниями сего ученого".
Это пишет своему сыну из Петербурга в Рязань 27 октября 1800 года Михаил Иванович Коваленский, куратор Московского университета, ученик и биограф замечательного философа Григория Саввича Сковороды. Он пишет ему каждые два-три дня о пустяках и о важном, но о чем бы ни писал он, слог его всегда остается ровен, прост, традиционен и вместе с тем неуловимо индивидуален.
"Здесь настали морозцы, и я опять начал много ходить пешком, это для меня здорово..."; "Приказывай открывать чаще хворточки в покоях, раза три и четыре в день, для очищения воздуха, как я делывал всегда.
Пиши ко мне сам, ни у кого не спрашивая сочинять письма, что на ум тебе прийдет, то и пиши..."
М. Коваленский описывает сыну Михайловский замок: "Дворец сей прекрасно отделан и перед домом поставлена статуя Петра I, на пьедестале которой написано золотыми словами тако:
Прадеду
Правнук
1800 года.
Государь Петр I был прадед нынешнему императору, потому и подпись прилично сделана"; "Замок сей построен на острову нарочно зделанном; кругом канавы из Невы проведены, и многие мосты". 6-8 ноября он сообщает ему о своих занятиях: "Я препровождаю время здесь то со старыми приятелями моими, к ним ездя, то они ко мне ездят, то чтением занимаюсь, то с новыми знакомыми обращаюсь, изредка к большим вельможам являюсь, много хожу пешком, и о многом занимаюсь размышлениями для меня поучительными, гляжу на настоящее, вспоминаю прошедшее, воображаю будущее..."
И даже для щекотливого предмета - известия о насильственной смерти Павла I - находит он приличествующие случаю слова: "Третьего дня числа под 12 угодно было Промыслу вышнего прекратить жизнь Императора Павла I нечаянною болезнью, которая причинила ему смерть и в то же время возвести на Престол императорский Александра I, преисполненного драгоценнейшими для человечества дарованиями..."
Медленный, размеренный ритм жизни; ставший привычным распорядок дня, где занятия чередуются с прогулками, во время которых можно предаваться размышлениям, - распорядок, будто сам собою располагающий к тем "беседам в письмах", о которых писал Даль.
Мирно течет частная жизнь куратора Московского университета, идут из Петербурга и Москвы в Рязань его письма, диктуемые сугубо личной заботой о сыне, любовью к нему, и этот тонкий ручей впадает в воды истории, донося до нас и духовный облик писавшего, и некий тип семейственных отношений, и разнообразные оттенки отношения людей 1800-х годов к событиям своего времени.
Навыки эпистолярного жанра, осознание места его в жизни человека сформированы были у самого М. Коваленского еще в отрочестве при прямом участии его наставника - в 1761 году. Современный биограф Сковороды Ю. Лощиц пишет об этом так: "Они жили в одном городе, каждый или почти каждый день встречались в коридоре, в классной комнате, после занятий часто совершали прогулки, уходя иногда далеко за город. Но и этих встреч, такого общения было им мало.
Тогда с одной улицы на другую полетели письма.
Письмоношами были братец Михаила или еще ктонибудь из ребят-школяров. Поначалу получалась своего рода эпистолярная игра, условием которой было писать только на латыни. Сковорода тем самым преследовал педагогическую цель - исподволь и как бы шутя научить своего воспитанника свободному владению классическим языком. Но потом обнаружилось, что вовсе не это сугубо практическое назначение переписки составляет ее истинный смысл. И тот и другой уже просто не могли обойтись без писем". Семьдесят семь писем Г. Сковороды к М. Коваленскому, написанных в харьковский период, всю жизнь сохранялись адресатом и вошли в собрание сочинений философа как ценнейшие для нас страницы внутренней его жизни и общих воззрений.
Это уменье писать письма прививалось когда-то с детства - прививалось самой уже строгой обязательностью писания писем родителям с раз установленной, неменяемой периодичностью. Сын петрашевца Н. Кашкина пишет отцу из лицея ежедневно, давая подробный отчет о своих занятиях, отметках, денежных делах, отношениях с товарищами и состоянии своего духа. И через десять лет, живя в деревне, он пишет отцу так же регулярно, все теми же словами начиная свои письма ("Дорогой друг папочка...") и так же их заканчивая ("Всем сердцем твой..."), но сообщая не о лицейских уже отметках, а о хозяйственных делах. Само намерение написать письмо не отделено, по-видимому, значительным отрезком времени от того момента, когда перо берется в руки: давно заданный ритм облегчает сам приступ к письму. Процесс писания тоже, как видно, не вызывает напряжения, так как вошел в привычку.
Напротив - затрудняют дело незначительные (с нашей сегодняшней точки зрения) перерывы в переписке:
"Сажусь отвечать тебе, предвижу, что испишу в ответ на твои десять страниц 12, и даже не знаю, с чего толково начать, так много набралось тем за 5 дней моего молчания". Привычка к писанию писем выработала и определенный порядок расположения их содержания, как бы готовую сюжетную схему, даже готовую интонацию, которая начинает звучать с первых же строк письма; и видно, как, начиная письмо, человек будто продолжает хорошо знакомое, ненадолго прерванное занятие...
В наше время инерция эта во многом утрачена.
Каждое письмо превращается в некий поступок, к которому готовятся всякий раз заново. И если для некоторых видов переписки это вполне естественно, то в большинстве случаев происходит напрасная растрата нервной энергии, когда человек три недели ходит с обремененной душой, съедаемый сознанием невыполненного долга; и все это для того, чтобы в конце концов сесть и за пятнадцать минут написать письмо-отписку, не стоящее этих треволнений.