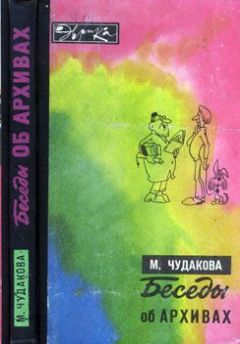Но даже и отрешившись от этого значения слова, человек не выходит из круга понятий, связанных с чемто школьным, детским... Девочка вела дневник, а подружки нашли и прочитали... Или - в "школьных" повестях недавних лет - обнаружили в дневнике у мальчика неодобрительные слова об учителях и товарищах и коллективно это обсуждали. Иногда записи из дневника появляются в молодежной газете - по следам исключительного какого-либо события, когда дневник фигурировал, например, в качестве вещественного доказательства при выяснении мотивов и виновников самоубийства. Словом, что-то либо детское, необдуманное, либо что-то выходящее за пределы "нормальной"
жизни.
Отчасти это отражает реальное положение вещей.
Культурная традиция ведения дневников заметно пресеклась. Современному человеку трудно задуматься над идеей вести дневник, трудно решиться на это, трудно выдерживать регулярность, необходимую для этого занятия. Ему трудно понять цель этого занятия, которая так или иначе восходит к стремлению - неважно, сознательному ли, бессознательному - закрепить уходящий день, включить его в бытие историческое. Стремление это естественно для человека, не чуждого культуре, и нужны долгие десятилетия, чтобы оно ослабело и в людях, теснейшим образом с ней связанных. Когда-то к этому приучали с детства. В архивах лежат сотни дневников самых разных людей прошлого века, позапрошлого, начала нынешнего. Их авторы люди разного возраста, разного круга наблюдений, разного образа мыслей, сближенные лишь одним - потребностью вести записи о своей жизни. Дневник ведет еще мать за шестилетнего своего сына, добросовестно записывая его впечатления от поездки на дачу, от толково прожитого летнего дня. Гимназист III класса начинает в 1905 году свой дневник, предпосылая ему весьма витиеватое, на литературных образцах построенное вступление: "Когда-то давно (!) я основал дневник, в котором описывал все горести и радости домашней жизни. Теперь же, когда круг моих наблюдений и мыслей значительно расширился, я задался целью описывать все горести и радости гимназической жизни..."
На исходе восемнадцатого века отец осторожно и настойчиво пытается приохотить сына к этому занятию, польза которого для него не подлежит сомнению. "Пиши мне, мой друг, как ты проводишь время твое и начиная от утра до сна ночного как расположены и чем заняты силы твои? Я желаю знать о всем подробно, и ты заведи журнал каждого дня, в котором пиши все твое ежедневное занятие, даже кто у тебя будет, чем с ним занимался, о чем беседовали, и присылай ко мне, пока я здесь пробуду. Сим ты утешишь меня, а себя приучишь смотреть на все твои поступки, что есть первый шаг к мудрости" (неопубликованное письмо Максима Коваленского - ученика Григория Сковороды).
Вести путевой дневник во время путешествия было когда-то делом обыкновенным. До сих пор еще поступают в рукописные отделы библиотек и научных учреждений страны путевые записки XVIII и XIX веков - рукопией людей, ничем не примечательных, к литературе не прикосновенных, но считающих ведение дневника вполне естественным занятием путешественника. Сейчас путевые заметки все более становятся уделом одних лишь литераторов и служат обычно материалом для публикуемых вскоре по возвращении из поездки путевых очерков. Сама мысль о записи своих впечатлений становится, к сожалению, все более чуждой людям, далеким от профессиональных занятий литературой.
Двадцать работников научных учреждений страны ездили в течение двух недель по Европе и Африке, видели невиданные ими прежде города, наблюдали людей и нравы. Фотографировали многие, путевых записок не вел никто, кроме отрывочных записей в залах музеев:
эти перечни увиденных картин - один из самых популярных и наименее осмысленных видов записей. Это, в сущности, диктанты, не требующие от человека никакого душевного напряжения и быстро теряющие свое значение и для самого пишущего, не дающие ему впоследствии никакого материала для повторного переживания.
"Да что писать-то? Посмотрели, получили впечатление - чего еще надо?" Это недоумение тесно связано с неумением. И снова приходит естественное соображение о том, что уменье записать свои впечатления не приобретается вдруг, в тридцать или в сорок лет, что этому необходимо учить в детстве.
Вот многотомные, в наше время с тщательностью изданные П. Зайончковским дневники известных русских государственных деятелей - министров и советников царя - П. Валуева, Д. Милютина, А. Половцева... Ежедневные записи - разговоры с государем, свое личное, не всегда вслух произнесенное или в официальных бумагах изложенное мнение о состоянии дел в государстве, отклики известных лиц на внутренние и внешние события, просто слухи.... Всем известный днэвник цензора А. Никитенко, составивший три толстые книги и охвативший почти полвека жизни автора, служащий сегодня важным источником для всех изучающих 1830-1860-е годы! И почти никому не известные пятнадцать тетрадей дневника, охватившего время с 1917 до 1933 года и прервавшегося только незадолго до смерти автора. Дневник этот был начат автором, филологом, историком русской литературы, в трудное время, когда он вынужден был служить в нескольких учреждениях, подолгу добираясь пешком из одного в другое, озабоченный очередным уплотнением или дровяным кризисом, искать выход из которого становилось все труднее. Остается удивляться, каким образом ухитрялся он при этом делать почти ежедневные записи - подробно, разборчиво, аккуратно ставя даты, не забывая, кроме фамилий, помечать инициалы упоминаемых им лиц. По-видимому, это обращение к дневнику было для него своего рода прибежищем от дневных забот, моментом и отдыха, и насущно необходимой отдачи себе отчета в собственных чувствах и мыслях, ежедневно приводимых в сумятицу разнообразием совершавшихся событий.
Большая часть записей говорит о частной жизни автора - о служебных делах, о жилищных и топливных затруднениях начала двадцатых годов, о трудовой повинности, об изменении цен на продукты и влиянии этого на семейный его бюджет, о судьбе близких и родных.
Фиксируя письменно эти "мелкие" факты, автор дневника тем самым как бы пытался противостоять инерции быта, непропорционально сильному напору житейских забот, удручавших его и раздражавших.
Неукоснительно их отмечая, он в тот момент их как бы преодолевал, над ними возвышался. В дневник попали не одни только факты этого рода - в нем отразились и многочисленные детали реформы средней школы и высшего образования и деятельности Наркомпроса, почерпнутые не из печатных источников, а непосредственно из устных докладов и частных бесед немаловажного материала для истории общества. Но трудно предсказать, какою именно своей стороною окажется этот дневник полезнее будущему историку, и не исключено, что, скажем, скрупулезно отмеченные здесь изменения цен (30 октября 1922 года - трамвай 500 тысяч станция, 4 декабря - трамвай - 1 миллион станция, коробка спичек - 200 тысяч, номер "Известий" - 400 тысяч, 10 яиц - 5 миллионов, кружка молока - 1 миллион 200 тысяч; 21 сентября 1923 года "...газеты не по средствам" - 20 миллионов номер...) и колебания размеров зарплаты представят наиболее важный, плохо освещенный в других источниках материал.
Д. Фурманов вел свой дневник всю сознательную жизнь - с 1910 по 1926 год, записи его, как правило, озаглавлены: "Первые шаги районной власти", "Революционный трибунал", "Мой первый приговор", "Утомление", "Частная беседа", "Тяжело на душе" и т. д.
Это значит, что, начиная писать, Фурманов всякий раз вычленял главный фактический материал минувшего дня и сразу ставил себе определенные ограничения.
Его записи - это обычно рассуждения на вполне определенную тему, заранее избранную автором. Новая тема, новые оттенки душевного состояния никогда не врываются самочинно, но непременно обозначены новым заглавием. Очевидно стремление автора придать каждой записи законченную форму, добиться некоторого единства и завершенности. Фурманову важно расчленить материал, чтобы впоследствии легко было разыскать нужные факты и даты. Ведя дневники 1917- 1918 годов, он, несомненно, уже думает о возможности использования их в будущем; следит за состоянием каждого законченного дневника, подновляет стирающийся текст и пронумеровывает все записи. Действительно, многие его очерки написаны целиком на дневниковом материале; особенно широко использован дневник 1919 года в "Чапаеве". Любопытно, что в 1917 - 1918 годах наряду с дневником, насыщенным материалом фактическим, Фурманов ведет второй, параллельный дневник, где отражает уже главным образом свои настроения и размышления о текущем моменте.
Привычка будущего писателя подробно развивать в дневнике свой взгляд на моральные проблемы, встающие перед ним в общественной и личной практике, подчеркнуто рационалистическое отношение его к личной жизни революционера дают возможность восстановить систему взглядов, своего рода моральный кодекс автора дневников. "Я хочу выработать целую декларацию нашей любви, создать конституцию нашей дальнейшей совместной жизни. Я уже поставил ряд вопросов и на эти вопросы жду от нее ответов. Когда, продумав серьезно, она даст мне свои ответы - н? достаточном основании я уже легко смогу окончательно создать эту конституцию..." Этот любопытный аспект дневников Д. Фурманова мог бы оказаться интересным не только для его биографов, но и для историков общественной мысли России первых десятилетий XX века - для тех, кто поставил бы перед собой задачу восстановления системы взглядов (и политических и этических) общественных деятелей этой эпохи. Дневники Фурманова еще недостаточно осознаны как источник исторический, значение которого выходит за пределы изучения личности и творчества писателя, как ценные документы реальной общественной обстановки определенных лет.