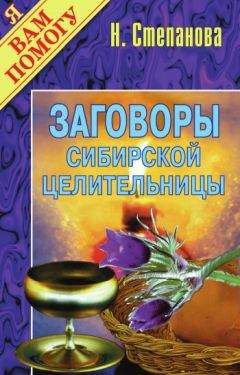Мне нравилось видеть, как с каждым новым посещением изменяется и лицо, и разговор больного человека в лучшую сторону. Человек преображался, переставая охать, стонать и плакать. Вместо землистого лица появлялся здоровый румянец, и сам выздоравливающий радовался своему новому состоянию, шутил и без конца благодарил Бога и бабушку. Я гордилась своей бабушкой и страстно желала быть на нее похожей! Но бывали случаи, когда по какой-то, известной только бабушке причине, она меня отсылала, не давая мне присутствовать при приеме. Я вставала и уходила, понимая, что это так и нужно. В этот раз я была оставлена на своем сундуке и жадно слушала то, что почти с первых же слов захватило все мое детское внимание. Поскольку с малых лет я была при бабушке, мне было понятно все, о чем говорила Астафья Агаповна.
По мере того как она углублялась в свой рассказ, я все больше вглядывалась в лицо своей бабушки. Надо сказать то, как умела она слушать людей, было само по себе нечто поразительное. Ни один мускул, ни бровь, ни линия губ, ни само ее тело не двигались. Она растворялась в том, о чем говорили ей люди. Не знающие ее близко могли бы подумать, что она ушла в себя, но я-то знала, что она не только слышит, но и видит то, о чем ей говорил рассказчик. В зависимости от услышанного и увиденного ее глаза менялись. Они темнели, ее зрачки становились огромными настолько, что казалось, цвет глаз исчезал и оставался один черный зрачок. Глаза ее влажнели, будто из них были готовы излиться слезы.
Но тут же, секундой спустя, глаза возвращались в прежнее состояние.
Я видела эти глаза тысячи и тысячи раз и всякий раз удивлялась, а порой и пугалась их изменению. Если она чем-то была недовольна, по ее непроницаемому лицу пробегала тень. Если она радовалась, лицо не двигалось, но светлело до такой степени, как будто кто-то подсвечивает его изнутри. С годами, когда я обучилась тому, чему она меня учила, я стала понимать ее состояние. А тогда, в тот далекий вечер, я следила за ее темнеющими глазами и пыталась предугадать, как она поступит с тем человеком, о котором ей говорила Агаповна.
Надо сказать, что Астафьюшка была хорошей травницей и кое-чему была обучена. Это теперь можно купить в аптеках всякого разнотравья, а тогда за травой бегали к знахарю или травнице. Травница отличается от мастера тем, что все ее знание состоит в травах и корнях. Травники редко лечат заговорами и молитвами. Они вовремя и как нужно соберут и запасут разнотравье, заранее принимая заказы от больных и мастеровых, у которых нет времени на сборы трав. Травники знакомы со многими знахарями, колдунами и мастеровыми. Их ценят и уважают, ведь без хорошего травника – никуда. Вот такой знатной травницей была наша Астафьюшка, царствие ей ныне небесное.
Надо ли говорить, что травники в курсе многих дел, их новостям можно доверять, ведь новости эти у них от мастеровых, которые приезжают к ним за лесным и полевым лекарством. Так вот, одну из таких новостей Астафья принесла моей бабушке.
Приходил к ней колдун, который много похвалялся своим умением и просил у Астафьи трилистник, волчью сныть и ведьмины глаза. Травы эти редкие, но у нее они были. Астафья сказала Федоту (так звали заезжего колдуна), что трилистник и волчья сныть, да и ведьмины глаза, конечно же, есть, но только брала она эти травки для Степановой Евдокии, и поскольку все это уже обещано, то и дать она Федоту их никак не может.
Услышав отказ, Федот стал просить Астафью уступить ему все три травы за выгодную цену, мол, все у него есть для задуманного дела: и зубы черной крысы, и лапки ворона, и жабий череп и даже свеча, сделанная из сала умершего младенца. В общем, он просил, а она ни в какую, уж больно дорожила она дружбой с Евдокией и не хотела быть перед нею брехуньей. Тогда мужик стал надсмехаться над родом Степановых. Он говорил, что если кто брехуны, так это сами Степановы и что их роду далеко до рода Коврижных. «Я если захочу, как прутик хребет Евдохе сломаю и на коленки у сортира поставлю сторожить свое говно. А если она такая царица, то пущай найдет меня и плясать заставит, не то я сам ее вприсядку пущу посреди храма». Федот достал кошель и сказал: «Если денег мало, то пойдем, я еще дам денег». Но и тогда, после этих слов, травница не отдала ему бабушкину траву. И вот, последнее, что Астафья помнит, это то, как колдун дунул ей прямо в лицо, а к вечеру она пришла в себя и обнаружила пропажу трав и корней.
На этих словах бабушкина подруга стала тереть глаза платком, но я не смотрела на плачущую Астафью, я глядела на свою бабушку. Лицо ее то серело, то бледнело. Зрачки глаз стали такими большими, что они полностью скрыли радужку глаз. В комнате стало пронзительно тихо. Я увидела, как бабушкины пальцы стали едва подрагивать, а затем стали дробно стучать по столу, медленно передвигаясь, будто она что-то искала на льняной скатерти. «Я вижу его! – сказала она. – Он остановился в Сосновке, это дом с краю. Он квартирует у одного мужика. Сейчас он ест рыбу». Тут бабушка медленно вытянула руки и зашептала:
На восточной стороне поле,
Позади поля синее море,
В море синем златырь-камень,
Златырь-камень мохом оброс,
Подводной травой зарос.
Под тем камнем живет щука-мать.
Велю тебе щука-мать раба Федота взять,
Зубами его хватать, кости в горло его втыкать.
Не дай ему, рыба-мать, глотать,
Дышать, вдыхать, выдыхать, жить, быть, умирать,
А дай ему от твоей острой кости страдать.
Запрещаю тебе, рыба-мать,
С кости острой Федота спускать,
Коли его, держи, до моего слова не отпусти.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.
Потом она медленно поднялась и сказала Астафье: «Езжай, разлюбезная моя подруга, к Федоту, он сейчас мучается, рыбкой подавился. Приди и скажи ему: та, которую ты обещаешь пустить в церкви вприсядку, будет ждать тебя в церкви. Сможешь пустить меня в пляс, сама передам тебе корону и всех знатких сама же оповещу духом своим, что ты отныне над Евдокией головой будешь. Траву у него не проси, даст Бог, потом сам принесет. Скажи ему, пусть он постарается меня увидеть, если род Коврижных так силен, пусть эту силу покажет! Придешь, подай ему эту осиновую лучину, скажи, пусть он ее зажмет зубами, тогда кость сама из горла отойдет!»
Я с нетерпением ждала возвращения Астафьи, мыкаясь у окна. К бабушке я не входила, понимая, что сейчас ей не до меня, наверняка с духом своей матери совет держит. Когда Астафья вернулась, то рассказала, что Федот даже не удивился ее приходу, до того измучился застрявшей рыбьей костью. Астафья подала ему осиновую лучину, и, когда он освободился от косточки, она передала ему слово в слово бабушкин наказ. Я, глядя на то, как они собираются, думала, что вряд ли они меня возьмут в храм. Но бабушка сказала: «Нет, душа моя, пойдешь с нами. Род Степановых не только мой, но и твой тоже. И я слов таких простить о своих никак не могу, да и не должна». Когда мы пришли в храм, служба уже шла. Ага-фья, осмотревшись, сказала: «Не вижу его что-то, не придет, наверное». «Нет, – сказала бабушка, – он здесь, стоит спиной к алтарю, прямо перед носом батюшки, и никто его не видит, силен однако».
«Я хочу его видеть, я хочу его видеть», – зашептала я, дергая бабушку за рукав. Она наклонилась к моему лицу и твердым голосом тихо сказала: «Видеть будешь все и запомни все, что увидишь. Стой и молчи, ни шагу из церкви и ни звука, а то помешаешь, не забывай, что я тебе говорила, ты моя кровь и можешь мне все перебить». Потом она дотронулась до моего лба, и я увидела бородатого мужика. Он действительно стоял лицом к выходу и спиной к алтарю. Священник читал, и люди, стоя вокруг него, молились. Как всегда, горели свечи и лампады, подпевал церковный хор, но я понимала, что в храме происходит никем не видимая борьба. Дед был огромен, с рыжей лохматой бородою. Он показывал бабушке фигу и лицо его дергалось в гримасе. О приемах оморочки мне было известно. Люди могут не видеть опасности и идти прямо на нее. Или видеть вместо змеи палку, вместо палки – змею. Способов много, и все они разные. Но этот способ был продемонстрирован прямо в церкви, во время службы, перед лицом священника, читающего молитвы. Глянув на Астафью, я поняла, что она, как и все, ничего не видит. Людей было немного, но ведь глаз было много. Но только эти глаза колдун от себя отвел!
Бабушка вступила навстречу Федоту, и он подступил к ней. Я стояла, и мне было жутко от страшных гримас бородатого деда. Он корчился и как бы пытался присесть, но будто спохватывался и выпрямлялся. Это могло бы выглядеть смешно, если бы я не знала того, что на самом деле происходит между этими двумя мастерами. На какое-то мгновение я прикрыла глаза. Когда я подняла веки, то увидела, что Федот ползком передвигается к двери. Бабушка шла за ним очень медленно, так же медленно, как он полз по каменному полу храма. Когда она проходила мимо меня, я увидела, что из ее закушенной губы стекает струйка крови. Лицо ее было беломраморное и настолько уставшее, каким оно бывает в самые тяжелые дни ее работы. Я двинулась следом за бабушкой на улицу. Каково же было мое удивление, когда я увидела, как дед Федот пляшет вприсядку во дворе церкви. Видно, бабушка, любя Бога и чтя церковь, не захотела, чтоб он прыгал в храме, но на улице не сдержалась и проучила своего обидчика. Позже я узнала, что Федот испросил через Астафьюшку у бабушки прощение и вернул ей все ее травы. Прошли десятки лет с того дня, но я до сих пор ясно вижу, как бородатый здоровый мужик наяривает вприсядку посреди церковного двора.