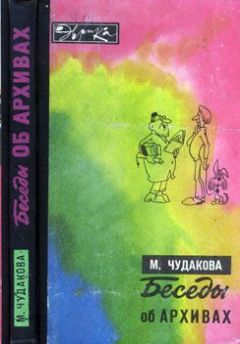дневника": "Они исписаны крайне неряшливо, лишены заглавия, вдоль и поперек испещрены вводными финансовыми расчетами, изобилуя самыми разнообразными, лишенными внутренней связи, литературными выписками. Поэтому-то дальнейшие обладатели "Дневника" п не придали ему значения, считая, по-видимому, его чемто вроде рукописной макулатуры..." В этом дневнике автор его - как нельзя более наедине с самим собою.
Он не стесняется ни в темах, ни в словах; явно не озабоченный обелением своего имени перед каким-либо воображаемым читателем, он записывает как бог на душу положит, мешая важное с неважным, перемежая острые и нередко презрительные характеристики своих:
современников (включая и царствующую фамилию) достаточно беспощадными автохарактеристиками ("Только похвалы печатаешь с легким сердцем, а чуть тронешь этих "государственных людей", которые, в сущности, государственные недоноски и дегенераты, и начинаешь вилять и злиться в душе и на себя и на свое холопство, которое нет возможности скинуть") - и открывается неведомому ему читателю с неожиданных сторон...
"Влиятельный правительственный публицист, близкий ко двору, руководитель официоза, - наедине с самим собою презирает и честит и двор, и царя, и правительство, равнодушно записывает о своем же органе: "Дрянно и бесцветно ужасно" - и жалеет о разгроме революции 1905 года, в котором принимает участие", - эту не совсем обычную особенность "Дневника" отметил первый же его рецензент. В дни предсмертной болезни Л. Толстого А. Суворин записывает: "31 января отобрали подписку в магазине не выставлять портретов Толстого и от Главного управления по делам печати сказали, что портрет Толстого нельзя помещать ни в каком случае и никогда. Очевидно, эти парни рассчитывают на бессмертие! Действительно, бессмертные дураки, ибо трудно предположить в будущем еще больших дураков.
Когда Гоголь умер 50 лет тому назад, Тургенева посадили под арест за то, что он напечатал статью о Гоголе, назвав его гениальным писателем. Теперь Гоголь во всех учебных заведениях, и ему ставят памятники.
Совсем не надо 50 лет, чтоб Толстой дождался памятника, а Синягин позорного клейма ча свой идиотский лоб". Сочувствие, с которым читаются записи такого рода, не может вытеснить из сознания читателя мысли о темных сторонах личности и деятельности салиго А. Суворина, мысли о лицевой стороне медали, которую сторона оборотная не в силах подправить. Но двухмерную плоскую картинку дневник как бы заменяет объемной - ив этом прежде всего его ли!ературная и историческая ценность. Помимо пересказов разговоров с А. Чеховым и Л. Толстым, с А Доде и Э. Золя, в этом дневнике множество разнообразных штрихов общественной жизни конца прошлого и начала нынешнего века, и без этих штрихов неполна ни история этой эпохи, ни биография и личность того человека, деятельность которого была одним из характернейших ее знамений.
И именно вольность изложения, неизменная обращенность своего слова к самому же себе, нестесненность заботой об "историческом" своем лице породила, быть может, наиболее яркие страницы дневника, показав еще раз неизменно двойное назначение каждой человеческой жизни: в том-то и дело, что живем мы для себя, а нуждается в нас история.
Впрочем, нередко автора стесняет его собственное присутствие в своем дневнике. Он с методичностью делает скупые записи о событиях, но не в силах записывать свои о них соображения, фиксировать чувства. А. Жемчужников пишет о своем уже упоминавшемся нами дневнике: "Меня он интересует потому, что, прочитывая прошлый год, я вспоминаю все обстоятельства того времени, даже те чувства и мысли, которые в тот день были. Самые мысли и чувства я записываю очень редко, а также характеристику встречаемых мною лиц или оценку происшествий, или впечатлений от чтений. Во-первых, это берет много "времени, а во-вторых, если это не делается само собою, так оказать, не вырывается поневоле, а происходит обязательно с намерением непременно что-нибудь сказать интересное и дельное, то легко можно впасть в позировку (рисоваться)
или в сочинительство, неправду". Эту протокольность, сухость своего дневника он ясно сознавал и не раз подчеркивал: "Вообще мой материал не интересен. Внутренней моей жизни из него не видно. Нет ни чувства, ни мыслей, или почти их нет. Я не в состоянии выписывать их каждодневно на ночь" (25 июля 1885 года). Начав было отмечать особым значком наиболее интересные записи ("Я делаю это как для себя, когда, бог даст, когда-нибудь стану переписывать мой дневник, так и для моих дочерей"), он тут же сомневается и в этом:
"Опасаюсь только, что стану "невольно" рисоваться, чтобы заслужить эту отметку" (1 июля 1896 года).
Такая закрытость, скованность, излишняя подозрительность в отношениях с самим собой, конечно, мешает задаче дневника; но и в дневнике-протоколе событий историк найдет необходимые ему факты.
Какой же дневник предпочтет архивист? Как мог уже увидеть читатель, дневники разных - по складу характера своего, по способу отношения к миру, по мере самооценки и прочее - людей становятся источниками разного назначения.
Именно поэтому и нельзя, в сущности, ответить с определенностью на вопрос - как вести дневник?
Что именно в нем записывать? Самые разнообразные факты времени нуждаются в письменной их фиксации - также и те, что отразились в текущей печати. Это нужно прежде всего самому человеку: уже через год-два он не вспомнит точно того, что, казалось, не может забыться; даже перечень имен в опубликованном документе оказывается разным в памяти собеседников-современников - а всем им казалось, что они не забудут этого никогда!
- Какой же прок будущему историку в том, что он натолкнется в дневнике на факт, отраженный в печатных источниках?
- В том и дело, что перед ним будет факт иного рода, характеризующий уже восприятие некоего события общественным осознанием современности. Существует особая проблема - пробелы в источниках.
Одни области жизни общества неизменно фиксируются в документах разных эпох с наибольшей степенью полноты, другие - с наименьшей.
Польская исследовательница этой проблемы Ц. Бобиньска пишет: "Из всех форм и проявлений общественной жизни наименее равномерно отражена в источниках история общественного сознания и общественной психологии. Чаще всего мы вынуждены искать свидетельства об этом в произведениях литературы и искусства исследуемой эпохи".
Понятно, как помогают заполнению этих пробелов материалы личных архивов. Ваше отношение, неминуемо отражающееся в дневнике, преобразует все факты, попадающие в поле вашего зрения, делая их ценными и для социолога, и для историка.
Напомним к тому же, что источниковедческая ценность дневника, как и любого документа, - категория подвижная. Путь науки безостановочен, в ней не может быть момента подлинного и окончательного установления иерархии имен и явлений, документа, навсегда отодвинутого в темный у юл исторического внимания.
В большинстве случаев человек плохо представляет себе степень ограниченности человеческой памяти и потому, стремясь в дневнике своем зафиксировать то, что как ему кажется, он может забыть, он не упоминает о том, что, как он уверен, забыть не может. Между тем известны случаи, когда за давностью лет люди забывали даже свое авторство. Разительные примеры этого рода приводит С. Рейсер в своей книге "Палеография и текстология". И. Репин, приглашенный для удостоверения аутентичности приписывавшейся ему картины, "долго ее рассматривал, сидя в кресле, наконец встал и сказал: "Не знаю, не помню, писал я эту картину или нет".
Н. Чернышевский, составляя по возвращении из ссылки в 1888-1889 годах списки своих статей, против знаменитой своей рецензии на "Детство и отрочество"
Л. Толстого (где сформулирован был среди прочего ныне известный всем школьникам его тезис о "диалектике души" как характерной особенности художественной манеры молодого писателя) написал - "едва ли".
"К счастью, - прибавляет к этому автор книги, - сохранился автограф и список, составленный им же в 1861 году, где эта рецензия значится".
О неустойчивости человеческой памяти, о склонности ее невольно переиначивать события писал замечательный знаток документа Ю. Тынянов. Рассказывая о том, каким образом строится историческим романистом жизнь его героя - лица, реально существовавшего - он рисовал воображаемую встречу с ним: "Если бы вам довелось с ним встретиться, мог бы произойти такой разговор: - Ну, это совсем, кажется, не так было.
Вы напутали.
- Но ведь вот ваше письмо об этом.
- Да, в самом деле. Как странно!
А вот относительно того, на чем вы не настаиваете, что вы выдумали, может случиться, что человек тряхнег головой и неожиданно пробормочет:
- Да, вспоминаю.
Ведь много времени прошло".
Такой эксперимент доступен каждому. Попробуйте через неделю после события или разговора записать то, чтс запомнилось, и покажите другим очевидцам.