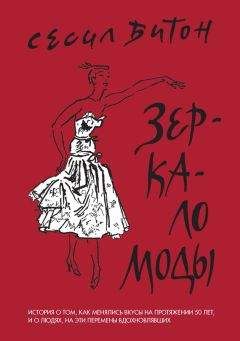И сегодня, листая потрепанный номер «Татлера» и вдруг натыкаясь на фотографию Габи Делис, на которой она в собранной складками балетной пачке исполняет ею же придуманный танец, или где она на приеме «для своих» в напоминающем паутину кружевном платье сидит, изящным жестом подперев головку, и в ее взгляде читается трагедия, я ощущаю, как по спине у меня бегут мурашки. Эта женщина могла быть разной, но она никогда не походила на других, а для меня так и осталась тайной.
Кто-то скажет: чудачка, ничего не смыслящая в моде, не имевшая вкуса. К сожалению, люди часто неверно трактуют понятие шарма; это свойство – редкое, эфемерное, неуловимое – часто обнаруживалось у особ с довольно сомнительной репутацией. Дело в том, что, в какую бы эпоху мы ни заглянули, символом ее всегда будут служить эксцентричные особы. Что позволено носить африканскому вождю, на актрисе Габи Делис будет воспринято как вульгарный наряд. Почему? Ответ очевиден. Мы упрекаем ее в дурновкусии только потому, что потакаем общественным предрассудкам. И наоборот, если мы оцениваем наряд африканца высоко, значит, мы позволяем себе уйти от шаблонов стиля и пытаемся смотреть на вещи его глазами. Получается, что и вкус, и условности переменчивы. Вкусовые условности куда менее интересны, чем вкус отдельно взятого человека.
Фрэнсис Бэкон заметил, что красота всегда связана со странностью пропорций. Все же Габи Делис от остальных отличало нечто большее, чем экзотический наряд и вызывающее поведение. Согласно последним исследованиям, стиль создают не подражатели и даже не модельеры, будь они трижды талантливы и авторитетны. Можно заставить женщину купить платье от Диора, но пойдет ли ей оно – еще вопрос. Стиль – это прежде всего плод яркой индивидуальности, которая не просто способна придать свои экстравагантные черты целой эпохе – она и создает эту эпоху.
Люди уверены, что все хорошее попадает к нам из Парижа, вот и Габи Делис поначалу считали француженкой. Позже выяснилось, что к Франции она отношения не имеет: ее происхождение и национальность до сих пор под вопросом. Свое состояние она, подобно герцогине Мальфи из пьесы Уэбстера, завещала беднякам Марселя. Даже смерть ее окружена романтическим ореолом: врачи нашли у нее неизлечимое заболевание горла и склоняли к операции как к последнему из возможных средств, но она предпочла умереть, чем жить со шрамом на изящной шейке. В течение последующих десятилетий за ее имущество не раз судились, а секретные службы пытались установить личность скончавшейся чаровницы, считая ее фигурой не столько загадочной, сколько сомнительной. Говорили, что она на самом деле венгерка; несколько раз возникали незаконнорожденные дочери Габи, демонстрировавшие в подтверждение своих слов родимые пятна; спустя десять лет в ее склеп в Марселе, проделав отверстие в стене, влезли воры.
Для меня Габи Делис – воплощение довоенной эпохи, символ, вместивший куда больше, чем она сама могла вместить как личность. Кто сегодня назовет имена десяти первых модниц, прославившихся на закате эпохи славного короля Эдуарда? Думаю, их и в то время никто бы с ходу не перечислил. При этом, когда кто-то вроде меня припоминает что-нибудь из детства – песенку, летний пикник, – на ум сразу приходит Габи. Она, как и мода, – ярчайший пример торжества эфемерности.
В жизни и в романах понятие полусвета сопряжено с такими вещами, как влюбленность, страдания, краткие минуты веселья и гипертрофированные выплески эмоций. Полусвет, отделенный от высшего общества, погруженный в свою неповторимую атмосферу вечера при свечах, сегодня, увы, знаком нам лишь по воспоминаниям Марселя Пруста и прекрасной Колетт. Дамы сомнительного происхождения – экзотические цветы, взращенные в теплице всех доступных миру удовольствий, – расцвели, легко найдя отведенное им по умолчанию место под солнцем. Эти гурии, приставленные служить великосветским господам, до одури наслаждались беззаботностью и роскошью. Так продолжалось полвека: с началом Первой мировой войны образ жизни джентльмена стал куда менее разгульным и праздным, и этот блистающий, в чем-то очень милый мир полусвета постепенно стал исчезать или, по крайней мере, лишился внешнего лоска.
Эти дамы были прирожденными королевами шика
Корни этого явления следует искать в эпохе романтизма: уже тогда перешли в наступление парижские кокотки, с умением военных стратегов занимая высоты театральных лож. Оттуда они высматривали в лорнет молодых холостяков, а также женатых мужчин, чье добродушие наверняка будет подкреплено солидной чековой книжкой. Можно сказать, что расцвет эпохи куртизанок пришелся на внешне целомудренные 80-е годы, но вообще эти прелестнейшие и хорошо воспитанные создания досидели за столиками в «Максиме» и в частных ложах театров вплоть до Первой мировой войны. Все это время они вдохновляли модельеров и ювелиров на самые головокружительные эксперименты. Об этих элегантных красотках, прохаживавшихся по полю ипподромов Лоншана и Довиля, один кутюрье писал так: «Молодые кобылки, перед тем как пуститься в галоп, прогарцевали перед хозяевами, все в мехах и с гигантским плюмажем. Семенящая птичья походка, королевские манеры, величественно поднятая голова. Укутавшись в шиншиллу, они выглядели на все десять тысяч луидоров. Джентльмен знал, за что платит.
Эти дамы словно родились для роскоши. Так что конкуренция была высока: стремясь снискать славу, парижские портные состязались в изобретательности и смелости. В ранний час, когда скачки открывались, помощницы портных еще втыкали булавки в ткань – при этом к началу мероприятия платье неизменно было готово».
После 1914 года этому блистательному обществу, как, впрочем, и многому другому, настал конец. Гарри Мелвилль сетовал на то, что послевоенные кокотки стали слишком «гольф-клубными». Сегодня профессия куртизанки практически вымерла, стала анахронизмом, либо навсегда переродилась, опошлилась и утратила всякую связь с образом красавицы в шикарном экстравагантном туалете.
Богини полусвета, навсегда канувшего в Лету, были проститутками, но проститутками высочайшего класса. При всей любви одеваться ярко и вычурно они не переступали черту вульгарности, в противном случае они бросили бы тень на своих покровителей, отличавшихся хорошим вкусом. Поэтому золото, слуги, акции и облигации им достались по праву. Лучшие представительницы этой сомнительной профессии жили в собственных домах и квартирах, знали, как обходиться с прислугой, как выбрать еду и вино, прекрасно умели развлечь гостей, которых пригласил их кавалер, при этом делали это с подкупающей беспечностью, каковой недоставало этим господам у них дома: когда респектабельная куртизанка грациозно сходила со ступенек экипажа и направлялась в Булонский лес выгуливать афганских борзых, с ней не могла соперничать ни одна герцогиня. Не менее элегантно смотрелись эти дамы и в магазине платья, где их принимал сам великий Жак Дусе – аккуратная бородка клинышком, гвоздика в бутоньерке, ни дать ни взять иностранный посланник. Конечно, пути герцогини и парижской кокотки в то время не пересекались в принципе, не случалось этого и в последующие двадцать лет, а когда наконец случилось, кокотки исчезли как класс. Как остроумно заметил Кристобаль Баленсиага, вчерашняя кокотка выросла в солидную даму.
Она направлялась в Булонский лес выгуливать афганских борзых
Королевы полусвета особенно не стремились обрести статус, узаконить свое положение, выйдя замуж за покровителя. Бывало, они влюблялись, как у Колетт в романе «Шери», в мужчину своего круга, но не могли оставить свое священное ремесло. Если вдруг аристократка замечала джентльмена из своего круга в обществе кокотки, и речи не шло о том, чтобы отпустить колкое замечание в его адрес или в адрес его спутницы. Наоборот: обедая в обществе загадочной дамы в жемчугах, кружевах и вычурной шляпке, мужчина-аристократ будто облачался в плащ-невидимку – его высокородные друзья его не замечали, как если бы его не было вовсе.
Некоторые из этих ярких и известных в свете дам имели некоторое отношение к театру. Они фотографировались в богато украшенных гостиных, одетые в неглиже из невесомой воздушной ткани, и подпись под снимком нередко гласила, что это «известная актриса». Большинство наслаждалось роскошью в Париже, некоторые предпочли Лондон.
Последней представительницей полусвета, пожалуй, была ослепительная блондинка со шведскими корнями, некая Жаклин Форзан; ее звезда взошла накануне войны и закатилась незадолго до ее окончания. Она была изящна и грациозна, фигура ее имела совершенно неповторимые линии, а кожа славилась ослепительной белизной. Носик у нее был маленький и округлый, а соблазнительно приоткрытые губы – ровно такие, какие нужно. Все в ней словно призывало к близости. Негритянские глаза, подчеркивавшие бледность ее личика, придавали ей удивительный шарм – не меньше того, коим отличалась ее соперница, актриса Женевьева Лантельм. При этом на фоне этой знойной блондинки Форзан выглядела скромнее, строже и куда загадочнее, кроме того, в ней не было ни тени вульгарности. Она была будто растворена в благоухании пармских фиалок и казалась недосягаемой.