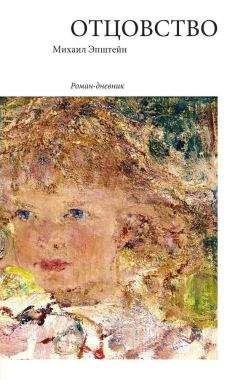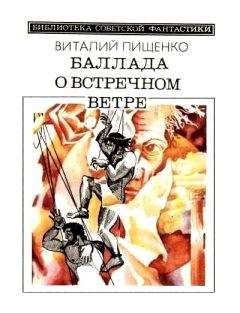И так день за днем. Ты уверенно ходишь, играешь, плачешь, смеешься — но все это стало меньше тебя, не заполняет целиком. Как будто в тебе открылся какой-то новый орган скуки и томления, и ты равнодушно отторгаешь мирок прежде любимых затей и забав.
Ты жила, чтобы жить, а этого уже недостаточно. Что-то иное просится в твою жизнь — и не может попасть, и просачивается пустотой. Словно парашют, до отказа набитый гудящим воздухом, упруго несший тебя к земле, теперь мягко садится и опадает вокруг тебя, сморщиваясь в складки. В твоем существовании нарастает второй слой, прозрачно-белый, колышущийся, как сдутая оболочка, окутывающий неподвижностью и немотой — хотя сама ты становишься все проворнее и лопотливее.
До сих пор ты и жизнь точно совпадали в своих границах. По тебе можно было судить, что есть жизнь в ее наступательном азарте, ежеминутной готовности быть всем, чем она может быть. И вдруг на моих глазах произошло расслоение, границы жизни раздвинулись, обводя тебя тонкой и все ширящейся каемкой, будто обсыхающей отмелью, на которую уже никогда не вернутся волны уходящего моря. Ты уже не совпадаешь со своей возможностью, ты определяешься в бедности того, что есть сейчас, и оставшаяся жизнь удаляется, проходит мимо тебя, и ее все больше и больше — той, что никогда не вернется.
Я гляжу на бедный пол с полуободранным линолеумом, по которому разбросаны твои игрушки, на бедный стол, где отсвечивает лужица пролитой тобою воды, на бедный день, пробирающийся сквозь осенние облака и сплетения ветвей к нам в окно. И это есть то, для чего ты родилась? Чтобы перебирать игрушки, передвигать тарелки, смотреть в окно, делать то, что бесчисленное количество людей уже делало и будет делать после тебя? И это тебе, Единственной, уготована такая участь?
А какую другую я могу тебе дать, если у меня — точно такая же, и я лишь твоею, еще неизвестною, обнадеживал себя?
Когда выручаешь человека из беды или выхаживаешь больного, все силы с надеждой устремлены к спасению — жить! жить! жить! Вся жизнь впереди видится как нескончаемый праздник и сама собой оправданная цель, до которой надо только дожить, найти последние средства дотянуться и оказаться в ней, как в уносящемся красном звенящем трамвае. И больной, обездоленный, отставший — догоняет, живет изо всех сил и во всю полноту надежды, пока не будет ему здоровья, удачи — жизни как таковой.
И вдруг… Как мелеет время, глубину которого, казалось, не исчерпать! Смысл был в каждой минуте, отчаянной, рвущейся, опасной, но все-таки приближающей к жизни; а теперь, когда впереди долгие годы, — что осмыслит их? Звенит себе трамвай, носится по одним и тем же рельсам. И прежние волнение и важность каждого шага: успеть — не успеть, попасть — не попасть — отступают куда-то перед легким, беспрепятственным мельканием столбов, домов, остановок. Вот это и есть оно — то самое — миллионами протоптанный, до железной колеи уплотнившийся путь?
Весь первый год мы с тобою спешили к жизни. Ты выздоравливала от небытия, и этот бурный приток сил, округление плоти, яснение глаз — все это вихрем счастья и самоочевидностью смысла несло нас вперед, с единственной, ни разу еще не обманутой надеждой, что твоя-то жизнь и будет всем тем, чем может быть жизнь вообще. И вот ты живешь, овладела движением и речью, и дальше летит время, уже не заполненное столь животворящим усилием. И ты — я угадываю это нашим общим «томлением духа» — не знаешь, куда деть себя в этом замершем мире, где вперед мчится, с металлическим звоном по рельсам, только время. Мы теперь — в одном с тобой мире, девочка.
Я вспоминаю, как ждал твоего появления, как изнемогал в здоровом и тщетном своем бытии. То была пустота перед взрывом, умирание — перед твоим рождением. Мог ли я думать тогда, что и в твою чудесную, спасительную для меня жизнь войдет эта же неразрешимая пустота, что она возникнет не откуда-нибудь, а из твоих глаз с их внезапным сквозящим просветом? Или опять мы ждем чего-то, что должно спасти нас обоих?
В такие минуты тягостной тишины и неприкаянности — мы вдвоем в дачном доме на краю огромного поля — ты становишься близка мне как-то особенно, по-человечески. Это слово так истрепано, что кажется, ничего уже нет в нем особенного. Но после всего надличного, божественного и бесовского, возникавшего между нами, я нахожу тончайшую прелесть и невыветрившуюся теплоту в том человеческом, что может по-новому нас объединить. Это такое малое, свое, отдельное, ни на что не похожее — человеческое. В огромном, распахнутом безднами сияния и мрака, эфирно просквоженном, астрально просвеченном мире человеческое почти так же мало, как муравьиное, ягодное, травяное, но оно — наше. В этом тесно-человеческом мы можем, наконец, сблизиться так, как не соединят нас никакие высшие силы, и так, что никакие низшие силы нас не разделят.
Помнишь, я возил тебя в коляске по полю, и дул ветер, очерчивая наше совместное одиночество… В какую неистощимую пустоту мира ты родилась! Потом все стало уплотняться, заполняться твоим зрением, слухом, лепетом, ползанием, быстрым разбуханием твоей ранней жизни. И вот ты заговорила, зашагала, устремилась все понять, испытать…
Но пока заполнялись пределы внешнего мира — та же пустота незаметно распустилась внутри тебя, раскрыла тусклые лепестки и глубокую сердцевину в твоем взгляде. Опять осень, октябрь, и опять мы канули с тобой в этот наземный проем, ветреное, продутое насквозь поле — только теперь оно в нас. И опять, чтобы не затеряться в нем, остается лишь знать: мы вместе, два наших одиночества бредут рядом и не потеряют друг друга.
Вот это и есть та человеческая малость, которая теснее всего может нас соединить, — малость двух былинок на ветру, сцепившихся корешками и ветхим комочком осыпающейся землицы. И если поднимет и понесет их ветер в скучную даль, то, лишенные всякой иной почвы, они найдут ее друг в друге, в слитном дрожании и сухой ласке сросшихся корешков.
Я радуюсь еще большему приобретению, чем предстоящему рождению второго ребенка, — ведь теперь и для тебя рождается новый мир, в котором ты — сестра.
26 сентября 1980 года. Две недели, как ты начала ходить. Два месяца, как тебе исполнился год. Два года, как вдохнули мы тебя в эту жизнь.
Узнай то, что мы с достоверностью узнали сегодня: у тебя будет брат или сестра!
Радуйся, девочка! Ты уже чья-то сестра.
«Брат», «сестра» — в этих словах есть какая-то целомудренная строгость, быть может, привкус монастырских обычаев, где ушедшие от всего мирского так именуют друг друга перед лицом общего Отца. Собственных братьев и сестер у меня не было, и понятия эти, лишенные семейной привычки, сразу явились как образы духовной посвященности.
С юности мне нравилась система «предустановленной гармонии» по Лейбницу: каждое существо — замкнутая монада, которая общается с другими не через двери или окна своего «я», а через общую основу, предустановленную от Бога. Эта связь личностей-монад через родительское начало и есть братство и сестринство: взаимная укорененность при полной независимости — два необходимых условия нравственного отношения между людьми.
Если религиозные отношения строятся по вертикали, от людей к Богу, то этические — по горизонтали, от человека к человеку. Семья — наглядная модель того, как этическое возникает из религиозного: отношения между детьми — из их отношений с родителями. Но у этики своя область равных и сопутствующих, где лепится новый, более полный и зрелый образ человека, не заданный ему от рождения. Отец и ребенок друг другу не «другие», ибо рожденный пребывал в родителе, как родитель пребывает в рожденном. Старшему — почитание, младшему — покровительство. Но опыт воспитующей взаимности можно по-настоящему почерпнуть лишь из отношений с братьями и сестрами.
Одиночество, благоприятное в минуты созерцания и вдохновения, все-таки, как постоянный удел «единственного» ребенка, очень опасно в нравственном смысле: замкнутость на себе, скрытность и отчужденность, склонность к соглядатайству. С ранних лет нужны «другие» и «равные», в отношении к которым развивалась бы высшая человеческая способность самосознания и самоотдачи: относиться к себе как к другому и к другому как к себе. Ведь не умея осознавать себя как другого, нельзя другого чувствовать как себя.
Конечно, всегда есть ровесники-одноклассники, приятели, соседи, но общение с ними по преимуществу социально, а не этично. Все-таки товарищ — не брат. Социализация бывает столь же мучительна и духовно разрушительна, как и ее антитеза — индивидуализм. Страх показаться смешным и неловким, стадный инстинкт, подражательная манера поведения, присущая детям и подросткам даже больше, чем взрослым…