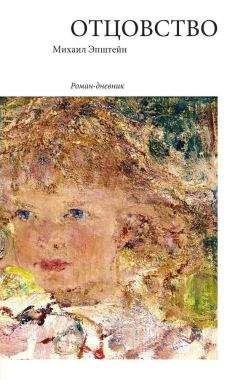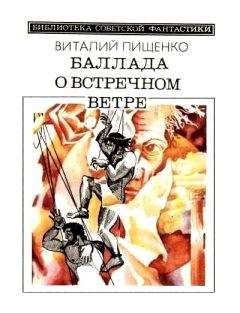4
Теперь я могу хотя бы отчасти уяснить для себя и жанр, в котором пишу. Сначала мне казалось — просто дневник, куда прилежно заносятся подробности каждого дня. Пособие для будущих воспоминаний. Но слишком много фантастических домыслов и бездоказательных аналогий сразу проникло в мой дневник, угрожая нарушить аскетическую чистоту его жанра. Отказываться от всех этих умозрений я не могу, потому что без них ничего не понимаю в самих текущих событиях, их ошеломляющей новизне. Так, все более и более отступая от документальной строгости, я прихожу к догадке о мифо-логике, то есть о логике тех внутриутробных превращений, которые во многом еще подчиняют жизнь новорожденного существа.
То, что я пишу, — это дневник и вместе с тем свод мифологических преданий о незапамятных временах, о сотворении человека, о начале начал, теряющемся во мгле небытия. Происхождение мира в свидетельствах очевидца. Документ о метаморфозах. Правда о превращениях. Ложь всех определений. Мифологический дневник. Эмбриологическая летопись. Все это — приблизительные обозначения одного и того же жанра, который, в сущности, также зыбок, малоопределен и многообещающ, как и все, что едва-едва родилось, в чем брезжит еще туманность зародыша-замысла.
Вот я, склонившись над ней, разговариваю, а она что-то гулькает, улыбается в ответ — и вдруг подается ко мне всем тельцем и взмахивает ручками. И часто-часто так делает, словно пытаясь взлететь, — не чуя земли и вручая себя воздуху, как будто сами эти стихии еще не разделились для нее. Второй и третий дни Творения, наверно, еще впереди.
Главное в искусстве взлета — это умение с такой легкостью отдаться воздушной стихии, чтобы она сама тебя подхватила. В какой-то миг важно замереть, остаться без сил, отказаться от усилий. Рвутся вперед лишь существа, обреченные на тяжелый, прерывистый шаг. И в ней есть это замирание — свойство, рождаемое привычкой ко сну, который близок таинству полета, невесомого, заоблачного парения. Во всех ее жестах есть та беспрепятственность и окрыленность, с какой делается только нечто прекрасное, легкое и безошибочное.
Однако она ничуть не обижается, когда воздух обманывает ее доверие и притяжение мягко забирает ее назад. Ни возмущения, ни борьбы, ни удрученности своей неудачей! Словно ей и птицей естественно быть, и от самой себя, от своего человеческого груза она отказываться не хочет, и ей даже нравится чередовать эти два состояния. Туда — сюда, вверх — вниз, взлет — падение… Уж не первая ли в жизни игра с уготованным самой природой партнером, которого обретаешь, едва родившись на свет, — с земной тяжестью?
Теперь, когда я пишу она, ее, с нею, я ощущаю всю меру женственности, заключенную в этих словах. Ведь раньше, до ее рождения, мы думали только он, его. Несмотря на все приметы и разуверения искушенных женщин, Л. упорно чувствовала в себе сына и почти не поверила своим глазам, когда акушерка показала ей девочку. «Не ошибка ли? Мой ли это ребенок?» — первое, что пронеслось в голове и от чего кольнуло сердце. И у других наших знакомых женщин почему-то было, как правило, предчувствие мальчика, даже если хотели девочку.
Может быть, это ощущение мужского плода неотделимо от самой природы беременности? Мужчина входит в женщину и остается в ней семенем — естественно ей и ощущать в себе мужа, его уменьшенное подобие — сына. «Понести от мужа» его частицу, его плоть и кровь — значит понести мальчика, по пословице «Что посеешь, то и пожнешь». Рождение девочки слегка озадачивает: это как бы внеполовой способ размножения, без участия противоположно заряженной силы. Женский организм воспроизводит себя, как соматическая клетка, — самоделением, а не совокуплением, как клетка половая. Словно и не было никакого мужчины, и женщина одна, сохраняя свое девство, произвела подобную себе. Вот почему по обычаю отец чаще хочет сына и гордится им как свидетельством своей мужской силы и власти над женщиной: победил в любовной борьбе, утвердил в ее лоне себя — свое подобие… Тогда как девочки чуточку стыдится, словно проявил слабость — жена и без него могла обойтись в таком простом деле: взяла и раздвоилась. Такова безотчетная мифология.
И сам я попался в эту маленькую ловушку. Когда улеглось первое, не знающее границ ликование, я ощутил нечто целомудренное и смиренное в том, что родилась девочка. Это был свет, а не огонь, это не жгло, а сияло — холодноватым голубым светом. Я испытывал не восторг победы и самоутверждения, а благодарность приятия, удостоенности, словно не сам я это сделал — это было сделано для меня.
Я не понимал тогда, какие возможности открываются мне именно благодаря моей изначальной «непричастности». Действительно, в сыне резче ощущается «зачаточное» влияние отца, по праву гордого своим маленьким подобием. Но не заложено ли в этом изначальном, чересчур самолюбивом торжестве предвестие будущих обид и отступлений? Я говорю о тех отцах, в которых рождение сына укрепляет самодержавный образ мыслей. С женщиной у него до сих пор была только семья, а с первым мужчиной, подданным, сыном, у него появляется и государство. Маленькое, домашнее, очень удобное: режим геронтократии.
Рождение дочери не располагает, слава Богу, к диктаторским замашкам, пробуждая скорее рыцарские инстинкты. С появлением дочери в семью привносится что-то новое, но не государство как следующая за семьей ступень социальной жесткости, а, наоборот, предшествующая семье форма существования — «роман», беспечная и мечтательная влюбленность отца и дочери. Не имея основания гордиться своим подобием как уже чем-то достигнутым, завоеванным, отец в лице дочери получает другую возможность — предчувствие будущих узнаваний, сближений и встреч.
Но это еще впереди — пока я лишь испытываю вдруг ожившую, освежающую прелесть слов: она, ее, с нею. И самого главного слова, женственного от первой до последней буквы, круглого, мягкого, певучего, произносимого так, будто целуешь воздух: ОЛЯ.
До рождения Оли мы не только были уверены, что у нас родится мальчик, но и представляли его себе определенно. Худой, с удлиненным лицом, созерцатель, странник, бредущий по миру с рассеянным взором и от всего немножко далекий. Такой образ сложился из «его» слабых толчков, утробной кротости. А получилось совсем иначе: плотная, упитанная девочка, круглолицая, деловая, очень упорная, все время чем-то занятая. Не только другой пол, но и противоположный характер.
Уже в этом должен быть какой-то смысл, прямо к нам обращенный: одно дело — ошибиться, другое — вообразить ровно наоборот. Что это? Удар по нашей рассудочности, привычке управлять природой? А может, это не против нас, а за нас, в защиту от самих себя? Ведь мы, в сущности, представляли своего будущего ребенка таким, будто он не от нас, а от других родителей. Людей привлекательных, но загадочных и чужих. Ну в самом деле, откуда у нас мог родиться худой, отрешенный, беспечно-рассеянный, с удлиненным лицом — в кого? Это, скорее всего, было блуждание нашего духа, которому мы придали зримые очертания, — духа мечтательного, который как бы отталкивался от того, что мы есть на самом деле. Ребенка мы неосознанно представляли совсем на нас непохожим, искуплением нашего несовершенства. А получилось — именно в плоть и кровь нашу, и так оно и должно быть: чтобы мы не мечтали от самих себя отделаться, чтобы мы свое сумели полюбить.
Кажется — трудная ли наука! Но ведь большинство родителей так и считает, что дети им даются для исполнения несбывшихся надежд, для переиначивания своей неудавшейся судьбы. Чего нет во мне — пусть будет в нем. За мои недостатки пусть ему воздастся. Но может быть, ребенок для того и дается, чтобы мы, недовольные собой, вдруг сумели бы полюбить себя, точнее, полюбить в ребенке то свое, что мы в себе не любим. Хорошо ли это — любить себя и свое? не гордыня ли? Теперь я думаю, что гордыня — это НЕ любить себя, каков есть, роптать на Бога, взывая к лучшим дарам, иной участи.
И вот дети нам даны, чтобы мы к себе обратились, руки свои загребущие и глаза завидущие от чужого бы отвели — и вдруг восхитились бы тем, что в нас самих заложено. В труде нашего самоуважения дети — первые помощники. Ведь невозможно в своем ребенке не полюбить даже и того, что в себе не нравится: и неказистости, и норовистости, и родимых пятнышек — тут всему сыщется оправдание и умиление, словно забытый смысл просвечивает сквозь груду случайных подробностей. В ребенке мы видим себя как на переводной картинке: что казалось тусклым и скучным, здесь радует чистым блеском.
Я бы так определил родительство: искусство примирения с собой.
У нас по-прежнему бывает много гостей, но мы впускаем их как вернувшихся домой хозяев — сами знаете где и что, распоряжайтесь! Действительно, они хозяева в этой жизни. Новорожденный — вот кто настоящий гость, вокруг которого сразу начинается праздник и обряд гостеприимства: борются за его внимание, смеются, умиляются, оживление не сходит с лиц. И это всегда и везде, где есть маленький ребенок, — он поневоле вызывает, даже у совсем посторонних, ту улыбку, с какой хозяин распахивает дверь перед гостем: восторженные возгласы, удивление, дружеское похлопывание.