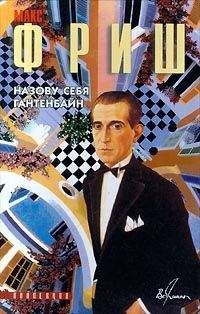Эльвира молчит.
Завтра я уеду.
Эльвира молчит.
В одной точке пространства и времени, здесь и теперь, сходятся два человека — мне это показалось таким чудом… И только. Я взял гитару, не знаю, чего я хотел, то была музыка…
Эльвира. Ты хотел нанести мне визит, не так ли?
Пелегрин. Ну пусть так, если хочешь.
Эльвира. А зачем? (С издевкой.) Затем, что мы любили друг друга? Когда-то.
Пелегрин. Я тоже думаю, что когда-то мы любили друг друга.
Эльвира. И вот, оказавшись поблизости, ты захотел узнать, сколько от всего этого осталось? Понимаю.
Пелегрин молча смотрит на нее.
Или ты хотел мимоходом удостовериться, знает ли Эльвира, чего ты достиг — без нее? Объездил весь свет! Я в курсе дела, меня ввела в него горничная.
Пелегрин молча смотрит на нее.
Или ты хотел узнать, могу ли я быть счастливой после того, как ты семнадцать лет назад поступил со мной подло?
Пелегрин. Это не так.
Эльвира. Да, я счастлива, Пелегрин. Счастлива. Чего ты хочешь еще? Дать тебе в этом расписку, чтобы ты мог уехать отсюда со спокойной душой?
Пелегрин. Без расписки, то есть без твоего предложения дать расписку, я бы в это поверил.
Эльвира. Когда-то, много лет назад, ты написал мне, кажется, с Явы.
Пелегрин. Из Кореи.
Эльвира. И ты ведь знал, каково мне было держать в руках эту открытку, добродушно-шутливую писанину после стольких лет?
Пелегрин. Если б мы знали, каково адресату получать наши письма, вряд ли мы стали бы писать их, Эльвира! Тут волшебная сила письма — его смелость…
Эльвира. Меня мучил стыд, что когда-то я могла любить человека, написавшего такие каракули. Мне было противно, понимаешь?
Пелегрин. Честно говоря, нет.
Эльвира. Мне было противно. С каждым годом все больше. Мне было противно, что ты такой трус. На том нелепом клочке бумаги ты писал, что желаешь мне хорошего, верного мужа…
Пелегрин. С моей стороны это было серьезно.
Эльвира. Да, чтобы самому сбежать к заблудшим и пропащим, туда, где не гниют, не стареют, не умирают! Вот в чем все дело. Ты не хотел жениться, чтобы моя тоска осталась с тобой. О, то была беспримерная хитрость. Ты желал большего, чем спать с женщиной, ты хотел войти в ее сны!.. А действительную близость, расходующуюся и пустеющую в тысячах привычных поцелуев, повседневность и будни ты оставил другому, доброму, верному мужу, которого ты мне желал… Зачем? Затем, чтоб у меня никогда больше не было любимых, чтоб я была связана супружеской верностью, не было ни одного, кроме того единственного в прошлом, кроме тебя!
Пелегрин улыбается.
Разве не так?
Пелегрин. Признаться, так глубоко я об этом никогда не думал.
Эльвира. Попытайся, и ты доберешься в конце концов до подлости, лицемерия в любви, трусости перед действительной жизнью, для которой у тебя недоставало мужества; его у тебя никогда не было, ни разу — и с другими женщинами тоже, я ведь знаю, что была у тебя не единственной!..
Пелегрин. Эльвира!
Эльвира. Ты будешь это отрицать?
Пелегрин. Что ты была не единственной, Эльвира, — это само собой разумеется.
Эльвира. Понимаю.
Пелегрин. Но ты, быть может, единственная, которая это понимает.
Эльвира. Понимаю, неверность льстит мужчине, это что-то вроде украшения, безделушки — не больше, приключения придают некий блеск, как и лишения, которыми вы так гордитесь… (Не выдержав.) Зачем ты приехал, Пелегрин?! Я ничего не понимаю, ничего! Скажи мне, зачем? Через семнадцать лет! Чего ты хочешь от меня?
Он молчит.
Грызть орехи? Листать книги?
Пелегрин. А почему бы и нет…
Эльвира. А почему бы и нет…
Пелегрип. Я люблю книги, которых не читал.
Эльвира. Ты приехал, чтобы узнать, люблю ли я тебя еще? Страдаю ли? Жду ли?
Пелегрин листает книгу.
Или ты хотел убедиться, что я тебя ненавижу, что я вижу тебя насквозь, что я презираю тебя?
Пелегрин листает книгу.
Зачем ты приехал? Чтобы еще раз повздыхать над прошлым и все простить друг другу, благосклонно и нежно, улыбнуться, пошутить о пролитых слезах, и только — ведь то был лишь эпизод в жизни мужчины, меланхолия воспоминаний выкроит из него еще эпизодик, это, так сказать, проценты с былого блаженства, визит мимоходом, прочувствованный вечер с вином и орехами…
Он листает книгу.
Ты молчишь.
Пелегрин. Ты не великодушна, Эльвира… Тем, что принуждаешь меня говорить. Лгать. Объяснять себя самого! Я приехал за тем-то и тем-то. Как будто я сам это знаю. Ты хочешь услышать от меня слово, чтобы сразу меня обвинить и от меня освободиться… Не знаю, почему ты боишься своего собственного сердца, Эльвира.
Эльвира. Я боюсь?
Пелегрин. Кто может с точностью знать, как все было? Знаешь ли ты или я в этот час нашего ночного бдения полную правду? (Берет другую книгу.) Если б мы помолчали, хотя бы час, вот так, как сидим! И только… Ты взяла бы книгу или вязанье, я бы смотрел иллюстрации, бабочек, эти растения. Melaleuca folia, [1] например… а потом, потом бы уехал.
Эльвира. А потом?
Пелегрин. Навсегда, я хотел сказать.
Эльвира. А потом?
Пелегрин. Потом вокруг нас снова была бы жизнь. (Садится за клавикорды.) В Гонолулу я встретил одного старого капитана, у которого оставалась одна возлюбленная — астрономия. Выше этого для него ничего не было. Мы всегда смеялись над ним, потому что ничто другое его не интересовало. С тех пор как он обнаружил в каюте какую-то толстенную книгу, все остальное стало вдруг пустяком. Вероятно, то была первая книга, которую он читал в своей жизни, и как читал! Он приходил в кабак, где мы танцевали с негритянками, и рассказывал о Млечном Пути так, словно он был создан только вчера… (Берет с тарелки апельсин.) Когда мы садились к нему за столик, он брал такой апельсин. Вот, говорил он, луна. И не терпел улыбок! Вон тот глобус — земля. А это луна. Между ними было семь шагов, я точно помню. А что посредине, спрашивал он, что посредине? Даже не воздух, не свет — ничего! Ничего, кроме ночи, вселенной, смерти, ничего, что бы заслуживало названия, — просто ничего!
Эльвира. Кто это говорил?
Пелегрин. Капитан из Гонолулу… «Предположим, — говорил он, — у меня есть сестра, она осталась в Европе, славная, милая девушка, предположим, она стоит на базаре в Барселоне и в эту минуту держит в руках… ну что бы… арбуз; вот вам одна звезда, арбуз в Барселоне — другая, а что посередине? — говорил он. — Ничего, кроме ночи, вселенной, смерти. Так велико, друзья мои, так велико ничто, так редко встречается жизнь, теплота, разумное бытие, горячий огонек. Так редко то, что есть». (Чистит апельсин.) Я не собираюсь спорить, верно ли все это. Он был большой чудак. Но я бы не мог очистить апельсин, не думая о нем.
Эльвира. Зачем ты рассказал мне все это?
Пелегрин. Так. Мне подумалось… а что если б нам еще раз очистить вдвоем апельсин, Эльвира, может быть, еще раз вокруг нас была бы жизнь…
Эльвира (прислушивается). Кажется, колокольчик?
Ничего не слышно.
Пелегрин. Из того, что ты говорила сегодня ночью, я вынес только, что ты умна.
Эльвира. А женщина не должна быть умной!
Пелегрин. У тебя есть тайны, которые сторожит рассудок; он тебе очень нужен, поэтому он так остр.
Эльвира. Ты приехал выболтать мне мои собственные тайны?
Пелегрин. Какое мне дело до них…
Эльвира. Ах да, ты ведь не хочешь знать, зачем ты приехал!
Пелегрин. Разве так уж невозможно, Эльвира, что я вообще ничего больше не хочу?
Эльвира. И все-таки ты приехал.
Пелегрин. И все-таки я приехал… (Ест апельсин.) В воображении моем все было правильно, даже красиво. Мы не вправе, думал я, судить друг друга. Ты можешь считать меня подлецом — Бог примет меня соответствующим образом, если это так. Я в свою очередь думаю, как сейчас невеликодушна женщина. Бог, если он думает так же, примет в соответствии с этим тебя… Что бы там ни было, думал я, жизнь свела нас, и мы любили друг друга — каждый по-своему, по своему возрасту, по возможностям своего пола. И оба мы еще живы: здесь и теперь, в это мгновение… Почему бы, подумал я, нам не поприветствовать друг друга?