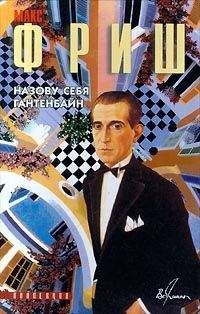Андри. Что мне сказать, отец?
Учитель. Не выношу, когда ты стоишь, как церковный служка, который что-то украл или еще что-нибудь натворил, такой смирненький, потому что боится меня. Иногда у меня лопается терпение, я знаю, я бываю несправедлив. Я не считал, не записывал своих воспитательских промахов.
Мать накрывает на стол.
Мать бывала с тобой холодна?
Мать. Что ты несешь! Можно подумать, что ты говоришь на публику!
Учитель. Я говорю с Андри.
Мать. Вот именно.
Учитель. Как мужчина с мужчиной.
Мать. Можно ужинать.
Мать выходит.
Учитель. Вот, собственно, все, что я хотел тебе сказать.
Барблин завершает приготовления к ужину.
Если он за границей такая важная птица, почему же он не остался за границей, этот профессор, который ни в одном университете мира не допер до доктора. Этот патриот, который стал нашим окружным врачом, потому что он и двух слов не может связать без родины и Андорры. Кого же винить в том, что из его честолюбия ничего не вышло? Кого же, если не евреев?.. Не хочу больше слышать этого слова.
Мать приносит суп.
Учитель. И ты тоже, Андри, не употребляй этого слова. Понял? Я не потерплю. Они же не знают, что говорят, и я не хочу, чтобы ты в конце концов действительно поверил тому, что они говорят. Запомни, это вздор. Раз и навсегда. Раз и навсегда.
Мать. Ты кончил?
Учитель. Это действительно вздор.
Мать. Тогда нарежь нам хлеба.
Учитель нарезает хлеб.
Андри. Я хотел спросить о другом…
Мать разливает суп.
Но, может быть, вы уже знаете. Ничего не случилось, не надо всего пугаться. Не знаю, как сказать такую вещь… Мне будет двадцать один, а Барблин уже девятнадцать…
Учитель. И что же?
Андри. Мы хотим пожениться.
У Учителя хлеб выпадает из рук.
Да. Я пришел спросить… я хотел это сделать, когда выдержу испытание у столяра, но так не получается… Мы хотим сейчас обручиться, чтобы все это знали и не приставали к Барблин.
Учитель. Пожениться?!
Андри. Прошу у тебя, отец, руки твоей дочери.
Учитель поднимается, как осужденный.
Мать. Я видела, что дело к тому идет, Кан.
Учитель. Молчи!
Молчание.
Андри. Но это так, отец, мы любим друг друга. Говорить об этом трудно. С самого детства, когда мы еще жили в одной комнате, мы говорили о женитьбе. В школе нам было стыдно, потому что все над нами смеялись. Вам нельзя, говорили, потому что вы брат и сестра. Однажды мы хотели отравиться, потому что мы брат и сестра, отравиться красавкой, но стояла зима, красавки не было. И мы плакали, и мать это заметила… и ты пришла, мать, ты утешила нас, ты сказала, что мы вовсе не брат и сестра. И рассказала всю эту историю, как отец спас меня, переправив через границу, потому что я еврей. Я обрадовался и сообщил об этом в школе и всем-всем. С тех пор мы уже не спим в одной комнате. Мы ведь уже не дети.
Учитель молчит в оцепенении.
Пора, отец, нам пожениться.
Учитель. Андри, это нельзя.
Мать. Почему нельзя?
Учитель. Потому что нельзя!
Мать. Не кричи!
Учитель. Нет… Нет… Нет…
Барблин плачет навзрыд.
Мать. Не реви!
Барблин. Тогда я покончу с собой.
Мать. Не говори глупости!
Барблин. Или пойду к солдатам, да-да.
Мать. Тогда тебя Бог накажет!
Барблин. Пускай.
Андри. Барблин!
Барблин выбегает из комнаты.
Учитель. Она дуреха. Оставь ее! Найдешь других девушек сколько угодно.
Андри вырывается из его рук.
Андри. Она обезумела.
Учитель. Ты останешься здесь.
Андри остается.
Это первое «нет», Андри, которое я вынужден тебе сказать. (Закрывает лицо руками.) Нет!
Мать. Я не понимаю тебя, Кан, я не понимаю тебя. Ты ревнуешь? Барблин девятнадцать, и кто-то у нее все равно появится. Почему же не Андри, которого мы знаем? Такова жизнь. Почему ты смотришь отсутствующим взглядом и качаешь головой, ведь это большое счастье, почему не хочешь отдавать свою дочь? Молчишь, замкнулся, потому что завидуешь молодым, завидуешь жизни, которая продолжается теперь без тебя.
Учитель. Что ты знаешь!
Мать. Я ведь только спрашиваю.
Учитель. Барблин — ребенок…
Мать. Так все отцы говорят. Ребенок! — для тебя, Кан, но не для Андри.
Учитель молчит.
Андри. Потому что я еврей.
Учитель. Андри…
Андри. Так и скажите.
Учитель. Еврей! Еврей!
Андри. Ну, вот.
Учитель. Еврей! Каждое третье слово, дня не проходит, каждое второе слово, дня не проходит без «еврея», почти не проходит без «еврея», я слышу «еврей», когда кто-то храпит, «еврей», «еврей», нет анекдота без «еврея», нет сделки без «еврея», нет ругательства без «еврея», я слышу «еврей», когда никто не еврей, «еврей», «еврей» и еще раз «еврей», дети играют в «еврея», как только отвернусь, это кричат мне вдогонку, лошади ржут на улицах «евре-э-э-эй, евре-э-э-эй, еврей»…
Мать. Ты преувеличиваешь.
Учитель. Неужели не может быть других причин?
Мать. Тогда назови их.
Учитель молчит, затем берет шляпу.
Куда?
Учитель. Туда, где меня оставят в покое.
Уходит, хлопнув дверью.
Мать. Теперь опять будет пить до полуночи.
Андри медленно уходит в другую сторону.
Мать. Андри?.. Ну, вот, все разошлись.
Картина пятая
Андоррская площадь. Учитель сидит один перед кабачком, Трактирщик приносит заказанную водку, которую Учитель пока не пьет.
Трактирщик. Что новенького?
Учитель. Еще водки.
Трактирщик уходит.
Учитель. «Потому что я еврей». (Теперь выпивает водку одним духом.) Когда-нибудь я скажу правду… надо думать… но ложь — как пиявка, она высосала правду. Она растет. Мне от нее никогда не уйти. Она растет, наполняется кровью. Она глядит на меня, как сын, еврей во плоти, мой сын… «Что новенького?» Я лгал, и вы гладили его, пока он был маленький, а теперь он мужчина, теперь он хочет жениться на своей сестре… Вот новенькое! Я наперед знаю, что вы подумаете: даже тому, кто спасал евреев, жаль отдать за еврея собственное дитя! Я уже вижу ваши ухмылки.
Входит Некто и подсаживается к Учителю.
Некто. Что новенького?
Учитель молчит. Некто достает газету.
Учитель. Почему вы ухмыляетесь?
Некто. Они опять угрожают.
Учитель. Кто?
Некто. Те — оттуда.
Учитель поднимается, выходит Трактирщик.
Трактирщик. Куда?
Учитель. Туда, где меня оставят в покое.
Учитель уходит в кабачок.
Некто. Что с ним? Если он будет так продолжать, он плохо кончит, мне кажется… Мне пиво.
Трактирщик уходит.
С тех пор как этот мальчишка ушел отсюда, можно, по крайней мере, газету почитать — без оркестриона, на который он просаживал все свои чаевые.
Картина шестая
Перед комнатой Барблин. Андри спит у порога. Свет от свечи. На стене появляется большая тень — Солдат. Андри храпит. Солдат пугается, медлит. Бьют башенные часы. Солдат видит, что Андри не шевелится, и пробирается к двери, снова медлит, открывает дверь. Бьют другие башенные часы, теперь он переступает через спящего Андри и затем, раз уж он пробрался сюда, входит в темную комнату. Барблин хочет закричать, но Солдат закрывает ей рот. Андри просыпается.
Андри. Барблин?!.. (Тишина.) Опять все замерло, напились, наорались и улеглись. (Тишина.) Ты спишь, Барблин? Который может быть час? Я спал. Четыре часа? Ночь, как молоко, знаешь, как синеватое молоко. Скоро запоют птицы. Как молочный океан…
Шум.
Почему ты запираешь дверь? (Тишина.) Пусть он поднимется, твой старик, пусть застанет меня у порога своей дочери. Пожалуйста! Я не отступлюсь, Барблин, я буду сидеть у твоего порога каждую ночь, пусть хоть совсем сопьется из-за этого, каждую ночь. (Закуривает.) Сон как рукой сняло… (Сидит и курит.) Я больше не хожу крадучись, как бездомный пес. Я ненавижу. Я больше не плачу. Я смеюсь. Чем подлее поступают они со мной, тем теплее мне в ненависти. И тем увереннее я себя чувствую. Ненависть строит планы. У меня теперь каждый день радость, потому что у меня есть план и об этом никто не знает, и если я держусь робко, то только для вида. Придет день — я им покажу. С тех пор как я стал ненавидеть, мне порой хочется петь и свистеть, но я этого не делаю. Ненависть дает человеку терпение. И твердость. Я ненавижу их страну, которую мы покинем, их лица. Я люблю одного единственного человека, и этого достаточно. (Прислушивается.) Кошка тоже не спит. (Считает монеты.) Сегодня я заработал полтора фунта, Барблин, полтора фунта за один только день… Я теперь берегу денежки, я больше не подхожу к этому музыкальному ящику… (Смеется.) Если бы они знали, как они правы: я все время считаю свои денежки! (Прислушивается.) Еще один плетется домой.